|
||||
КомментарииВоспоминания Д. А. Засосова и В. И. Пызина охватывают почти 20 лет жизни Петербурга перед трагическим поворотом его судьбы. В мае 1914 г.[601], когда петербуржцы, как обычно, разъезжались, никто не знал, что вернутся они не в Петербург, а в Петроград, из XIX в. сразу попадут в XX (Ахматова А. II. 5[602]). По сравнению с этим переломом изменения, происшедшие в предшествовавшие 20 лет, могут казаться несущественными. Но это впечатление неверно. В середине 90-х гг. оживились торговля и промышленность; был понижен железнодорожный тариф; хлынула в столицу рабочая сила, открылись новые учебные заведения, привлекшие в город массу молодежи. Квартир не хватало, цены на них поднялись, как никогда, зиму 1895/96 г. многим пришлось коротать в пригородах. Началась «строительная горячка». 1903 г.: «Везде леса и леса; два-три года тому назад Пески представляли собой богоспасаемую тихую окраину, еще полную деревянных домиков и таких же заборов. Теперь это столица. Домики почти исчезли, на их местах, как грибы, в одно, много в два лета, повыросли каменные домины». 1904-й: «Старый Петербург все уничтожается… Нет ни одной улицы почти, где бы старые двух- и даже трехэтажные дома не ломались; теперь на их месте возводятся новые кирпичные же громады… Удивительно много построек в этом сезоне, несмотря на тяжелое, военное время» (Минцлов С. 24, 25, 92). Прежде город рос преимущественно на юг. Открытие Троицкого моста дало сильнейший импульс застройке Петербургской стороны. Ее провинциальные улочки превращались в каменные ущелья. В 1897–1913 гг. население Петербурга возросло с 1130 до 1686 тыс. жителей, а его пригородов — со 134 до 332 тыс. Среди европейских городов столица Российской империи уступала только Лондону, Вене и Берлину, продолжая расти на 50–55 тыс. человек в год… Единственным источником в работе Д. А. Засосова и В. И. Пызина над этой книгой была их память. Материалы тех лет и краеведческая литература убеждают в полной достоверности их воспоминаний. Но авторы не претендовали на всесторонний охват предмета, поэтому, прежде чем перейти к комментированию текста, коснемся тех сторон жизни Петербурга, о которых они не говорят. Интересно в первую очередь то, чем столица выделялась среди других городов России и Европы. Предреволюционный Петербург принято считать городом с чрезвычайно высокой плотностью населения. В действительности же провинциальный Саратов отставал в этом отношении лишь на 16 %, Москва была заселена в полтора раза плотнее, а Лондон, Париж, Берлин — более чем вдвое плотнее Петербурга. Иллюзия перенаселенности возникала из-за особенностей планировки и застройки Петербурга: кварталы — самые крупные в Европе, в 5–10 раз крупнее, чем в Москве или Саратове; дома, тоже самые большие в Европе, занимали из-за дороговизны земли до 80 % участков; территория площадей и садов в целом по городу была ничтожна. Каменное тело Петербурга было громадно, свободного пространства оставалось мало. Поэтому по числу жителей на единицу уличного пространства столица оставляла позади любой город империи. А людность улиц создавала впечатление перенаселенности города. В противоположность обычным русским городам, чьи обыватели ютились в своих домишках среди обширных огородов, садов и пустырей, Петербург можно назвать «городом-интерьером». Приезжих он поражал обилием зелени не во внешних пространствах, а в вестибюлях, холлах, эркерах, оранжереях. Тем, кто хранил в душе образ деревянной России как родного и естественного мира и для кого Петербург был «Петрополем» — «камнем-городом» по мифической сути, он мог представляться сплошь каменным («серокаменное тело» — А. Блок) или даже гранитным («гранитный город славы и беды» — А. Ахматова). Но на самом деле каменных домов в нем насчитывалось чуть больше половины, тогда как Тифлис был каменным на 99 %, Одесса — на 96, Варшава — на 82 %. Хотя Петербург с его почти 700 фабриками и заводами и 119 тыс. рабочих и был крупнейшим наряду с Москвой промышленным центром России, отнюдь не промышленностью определялось лицо столицы. Фабричные рабочие составляли здесь всего лишь 7,6 % населения, тогда как в Москве их было 8,3, в Риге — 14,3, а в Лодзи — 18,3 %. По объему промышленной продукции на душу населения Петербург в 1,6 раза уступал Лодзи, хотя и шел впереди остальных крупных городов России. И по производительности труда он не был первым, уступая на 22 % Одессе и идя вровень с Саратовом. «В Петербурге наборщик в типографии сносно набирает с таких рукописей, которые в Москве кажутся совсем неразборчивыми; официанты обслуживают большее число посетителей в ресторане; банщики дольше могут мыть; извозчики способны благополучно ездить по улицам с бойким движением; ломовики несут большую тяжесть; городовые способны до некоторой степени разбираться в нарушениях порядка уличной жизни; почта способна выполнять спрос на ее услуги. <…> Мне приходилось наблюдать (в Москве. — А. С.) работу маляров и столяров при ремонте квартиры; их продуктивность труда была в четыре раза ниже такой же работы в Петербурге. <…> В Петербурге… дворники не стали бы жить в таких помещениях, как в Москве, да и полиция не допустила бы даже возможности отведения таких помещений для служащих» (Мертваго А. 183–185). Доходы петербуржцев (включая промышленных рабочих) были выше, чем в других городах России, поэтому Петербург не знал себе равных по концентрации торговли и услуг на улицах, по товарообороту в приведении к версте уличного фронта. Если искать специфически петербургские причины близкой катастрофы, то в глаза бросаются нищета и нравственная ущемленность 80-тысячной армии домовой прислуги — дворников, прачек, сторожей. Для петербургских домовладельцев эти люди были едва ли не самым дешевым (сравнительно с другими городами) «предметом» первой необходимости. В Варшаве им платили в 1,6 раза больше, в Саратове — в 1,9, в Тифлисе и Харькове — вдвое, в Киеве — в 2,3 раза, в Москве — в 2,5, в Одессе — в 2,9, в Риге даже вчетверо больше, чем в Петербурге. За их счет владельцы недвижимости умножали прибыль от сдачи квартир. Беспечное благополучие хозяев не могло не вызвать зависти и озлобления у тех, кто прислуживал им за гроши. Да и в съемщиках квартир, плативших в Петербурге сравнительно недорого, домовая прислуга видела косвенных виновников своей нищеты: ведь чем меньше домовладелец брал с жильцов, тем меньше давал он прислуге. Между тем отстаивать свои интересы с таким успехом, как это удавалось фабричным рабочим, эти обездоленные люди не могли. Будучи рассеяны по всему городу, они не способны были организоваться. Любое проявление недовольства грозило каждому из них мгновенной потерей места, потому что в Питере всегда был избыток неквалифицированных работников. Нет ничего опаснее злобы, годами не находящей выхода. Для «бывших» самой страшной бытовой фигурой первых послеоктябрьских лет станет прежний дворник — отныне истинный вершитель их судеб. Другая темная сторона петербургской действительности, несовместимая с красотой и европейским лоском столицы, — это чудовищная насыщенность почв и вод нечистотами. В столице Российской империи не было нормально устроенной канализации. Фекалии скапливались в выгребных ямах, откуда их по ночам вывозили за город. Иногда ассенизационного обоза ждали месяцами. Выгребы не были герметичными; почва была так насыщена нечистотами и газами, что приходилось опасаться за здоровье землекопов. С грунтовыми водами все это попадало в реки и каналы. Фекалии проникали и в деревянные трубы для сточных вод, причем некоторые стоки располагались в берегах Невы выше пунктов забора воды. Местами на реках стояли, распространяя зловоние, баржи для вывоза нечистот в залив. Бывало, баржи, еженощно наполнявшиеся до отказа, месяцами не трогались с места, потому что их хозяева тайком выпускали нечистоты в реку. «Петербург стоит на исполинском нужнике», — заметил один врач в Городской думе (Мережковский Д. 118). Между тем водопроводов не хватало для снабжения всего города питьевой водой. Местами ее приходилось брать прямо из Невы или ее рукавов. Надо ли удивляться тому, что постоянным фоном петербургской жизни были эпидемии холеры? «Каждый день на страницах „Нового времени“ печатается Memento mori:[603] „Заболело 17 человек, умерло 9“. Кажется, на всем Петербурге, как на склянке с ядом, появилась мертвая голова. Сведущие люди уверяют, будто бы холера никогда не кончится и устье Невы сделается необитаемым, как устье Ганга: „Петербургу быть пусту“» (Мережковский Д. 114). По смертности (28,5–30,4 человека в год на 1000 жителей) Петербург прочно держал первое место не только среди крупных городов империи, но и в сравнении с европейскими столицами: в Лондоне, Вене, Париже она держалась на уровне 19,0, в Стокгольме — 18,0, в Копенгагене — 16,8, в Берлине — 16,3. Самым страшным бичом Петербурга был туберкулез (до 20 % умерших). Почти столько же петербуржцев умирало от желудочно-кишечных расстройств. Корь, дифтерит и тиф давали в сумме около 18 % смертей. Помимо скверного климата и ужасающих санитарных условий — причин множества смертей среди непривычного пришлого населения — высокая смертность была вызвана еще и очень большой долей детей в возрастной структуре столичного населения (Енакиев Ф. 30, 31; Чериковер С. 108; Раевский Ф. 35). Приходится признать, что ни в каком другом городе империи человеческая жизнь не подвергалась ежечасно такой опасности, как в Петербурге. Поэтому ни один из крупных городов не нес и таких расходов, как Петербург, по медицинской и санитарной части в расчете на 1 жителя. Обеспеченности петербуржцев больничными койками мог позавидовать любой город России, но это была борьба с последствиями, а не с причинами экологического неблагополучия. На то, чтобы избавиться от самих причин, у города не хватало денег. Как ни парадоксально, Петербург с его богатым населением впятеро (!) уступал Москве по размеру муниципальных капиталов на душу населения. Это было вызвано тем, что до революции Петербург так и не успел воспользоваться в полной мере теми преимуществами, какие сулила происходившая в те годы перестройка городского хозяйства. К 1910 г. Петербург в основном завершил выкуп у концессионеров предприятий городской инфраструктуры — водопровода, трамвая, телефонной сети, типографий, скотобойни, Сенного и Андреевского рынков, складов, ассенизационного обоза и проч. Раньше львиную долю дохода давал городу оценочный сбор — двухпроцентный налог с частнособственнической недвижимости. Выжать из земле- и домовладельцев лишнюю копейку на нужды города было невозможно. А теперь основным, и притом постоянно растущим, источником муниципальных доходов становились указанные предприятия. Петербург обрел известную независимость от частного капитала, и впервые в истории города расходная часть бюджета перестала превышать доходную. Перспективы обнадеживали, но городская казна была опустошена выкупом предприятий, и на значительное ее пополнение в ближайшие годы рассчитывать не приходилось. Во-первых, потому, что содержание и развитие инфраструктуры требовало колоссальных средств. Отныне это была самая большая расходная статья столичного бюджета, по ее весу в структуре расходов Петербург опережал все крупные города империи. Во-вторых, предстояло выплачивать долги петербуржцам, ибо выкуп предприятий оказался возможен лишь благодаря специальным займам. В-третьих, Городской думе никак не удавалось облегчить бремя расходов на содержание расположенных в городе правительственных учреждений. Законом они были освобождены от уплаты городу налогов на занимаемые ими здания. А ведь в стоимостном выражении они владели половиной всей столичной недвижимости. Будь они обложены оценочным сбором, как и частновладельческие имущества, — бюджет Петербурга возрос бы, в оценках 1912 г., на 18 %! Мало того, за счет города обеспечивалось квартирное довольствие огромного контингента войск и содержалась городская полиция (Енакиев Ф. 77, 78). Побочным следствием муниципализации инфраструктурных предприятий оказалось то, что Петербург лишился источника дохода, за счет которого города обычно окупают затраты на преобразование земель, — дохода от их перепродажи по ценам, превышающим цену их выкупа у частных владельцев (Енакиев Ф. 58). Вся выручка от таких земельных операций и от сдачи в аренду принадлежавших городу строений, садов и парков, пристаней, вместо того чтобы снова быть пущенной на выкуп частных земель, пошла на «латание дыр» в бюджете. Муниципальной недвижимости становилось все меньше (Степанов А. 1993, 295–303). Вероятно, в мирных условиях Петербург все-таки поправил бы понемногу свои хозяйственные дела. Но разразилась война, и у великого города вскоре не оказалось средств даже для нормального продовольственного снабжения. Юношески жизнерадостная интонация, звучащая в воспоминаниях Д. А. Засосова и В. И. Пызина, вряд ли встретила бы сочувствие у властителей дум серебряного века — петербургских мыслителей, писателей, поэтов, общественных деятелей предыдущего поколения. «Мы живем на вулкане» — вот чувство, которым была охвачена культурная элита. «Кругом перебегали странные токи от жажды самоубийства до чаяния всемирного конца» (Мандельштам О. 40). Это освобождало от ответственности за сохранение ценностей текущей жизни. Привязанность к настоящему, трезвая озабоченность сиюминутными практическими делами казались этим людям нестерпимой пошлостью. «Отчужденность от жизни, презрение к „здравому смыслу“, мифотворчество, игра ума, любующегося призраками, неприятие реализма» — так охарактеризовал редактор ведущего петербургского литературно-художественного журнала «Аполлон» духовную атмосферу, которой дышали его единомышленники (Маковский С. 128). Отсюда готовность воплощать в жизнь беспочвенные идеи, политическая слепота, неспособность предвидеть реальные последствия назревавшей революции. Оглядываясь на последнюю предвоенную зиму, Анна Ахматова скажет: «Не знали мы, что скоро / В тоске предельной поглядим назад». Реки, каналы и жизнь на них Д. А. Засосов и В. И. Пызин не случайно начинают книгу главой о реках и каналах. Ведь в гербе Петербурга скрещиваются с царским скипетром два якоря — речной и морской. Когда город не был еще охвачен гигантской «подковой» районов-спален, увеличивших его территорию более чем вшестеро, весь он был ближе к Неве, казавшейся тогда еще более грандиозной. Водные пространства занимали не 4 %, как ныне, а 20 % площади города, протяженность рек и каналов составляла в городской черте 135 верст (в Париже, например, всего лишь 14 верст), и вся эта необъятная водная сеть использовалась Петербургом, Россией и Европой несравненно интенсивнее, чем нынче. За 70 лет, отделивших годы работы над книгой от рубежа веков, город отошел от реки, и хозяйственная жизнь на ней замерла, оживляясь лишь по ночам. На фоне «сухопутного» Ленинграда воспоминания о речном Петербурге обладают живописной привлекательностью, в свете которой отходят на второй план раздражавшие современников эстетические издержки бурной речной жизни столицы. В 1914 г. среди рек России Нева занимала второе место по количеству перевозимых грузов, уступая первенство Волге, и третье место по числу плотов и судов с грузом, уступая второе место Западной Двине. Вся эта армада устремлялась в Петербург, в его реки и каналы. За 1912 г. в Неву вошло 14 242 судна с грузом 276 млн. пудов и вышло 499 судов с грузом 6 млн. пудов. Первое место среди привезенных по Неве грузов занимали дрова, затем кирпич, лес, хлебные продукты, керосин. Около 130 млн. пудов грузов было доставлено в Петербург морем и около 90 млн. пудов отправлено с его морских причалов. Главные статьи ввоза морем — каменный уголь и кокс, затем хлопок-сырец, металлы и машины, химические продукты, фрукты, виноградные вина, рыба, сало, бревна, дрова, краски и столярные изделия; в вывозе преобладали хлеб и лес, масло, сало, деготь, смола, пенька и лен (ПЖ. 42, 43). «Красивую картину представляет Нева, усеянная множеством судов из далеких и близких стран, пришедших сюда. Разноцветные флаги пестрят реку, то и дело доносятся крики матросов, в воздухе слышны французские, английские, немецкие слова. <…> Верфи, доки, пакгаузы, мастерские полны народа, суеты, шума; визжат цепи, блоки, лебедки. То здесь, то там мелькают лодки и пассажирские небольшие пароходы. А с верхнего течения реки неустанно, одни за другими, плывут неуклюжие, неповоротливые баржи, баркасы, изредка паровые суда… Они торопятся поскорее свезти сюда, к морю, свой груз, так как времени мало, навигационный период невелик; того и гляди, река станет и дней на 150 затянется льдом» (Чериковер С. 115, 116). Особенно оживленно выглядели набережные Васильевского острова: «Начиная от Николаевского моста, видна бесконечная перспектива русских и иностранных судов, которые тянутся до самого взморья. Целый лес мачт вырисовывается на синеве неба, теряясь мало-помалу на горизонте. Одни суда стоят на пристани и разгружаются, другие стоят посреди Невы — в ожидании очереди. <…> В 1885 г. открыт был Морской канал из Кронштадта в Петербург, в устье Невы — на Гутуевский остров. Канал этот имеет в длину 26 верст, в ширину от 30 до 50 сажен (и в глубину более трех сажен. — А. С.). При входе канала в Неву, у Гутуевского острова, устроена гавань, или „ковш“, как называют его местные жители, — для остановки иностранных судов. Эта гавань может вместить в себе самые большие океанские пароходы» (Бахтиаров А. 1903. 102). Гавань обеспечивала одновременную стоянку до 100 пароходов (Енакиев Ф. 71). На улицах и площадях столицы Центром города считалась полоса между Невой и линией Невский — Садовая, ограниченная на западе Английским пр., на востоке Таврической ул. (за вычетом неблагоустроенного района Казанской — Подьяческих улиц); на Васильевском острове границами центра были 7-я линия и Средний пр. После открытия Троицкого моста функции центра распространились по Каменноостровскому и Большому пр. П. С. К центру примыкал торгово-ремесленный район, ограниченный на западе Английским пр., на юге — Фонтанкой, Гороховой, Звенигородской ул., на востоке — Лиговским пр. Занимая около 1/8 территории Петербурга, эти две зоны были окружены широким кольцом окраин (Юхнёва Н. 1984. 111), где у железнодорожных и водных путей и водозаборов располагались промышленные предприятия с тяготевшими к ним рабочими кварталами. К концу описываемого периода сформировалась «культурная топография» Петербурга. На левом берегу Невы в соседстве с императорскими дворцами и особняками знати Мейерхольд экспериментировал на Александрийской и Мариинской сценах; взыскательная публика спешила на Офицерскую ул. в театр Комиссаржевской и в Соляной городок в Старинный театр Евреинова; культурная элита обеих столиц стекалась на Таврическую в «Башню» к Вяч. Иванову или на Литейный в «Дом Мурузи» к Мережковским; на Троицкой ул. у Павловой вели публичные диспуты Бурлюк и Маяковский; рядом с Эрмитажем и Русским музеем сменялись выставки молодых художников; в зале городской думы выступал Малевич; молодежь полуночничала в артистических кабаре. Васильевский остров — вершина академической и университетской науки: Академия наук с Пушкинским Домом и Библиотекой, Университет, Бестужевские курсы, Академия художеств и… почти нет театров. На Петербургскую сторону ехали за развлечениями — кто в Народный дом и Зоологический сад; кто в синематографы Большого пр.; кто в «Аквариум» и подобные ему злачные места по Каменноостровскому пр. и далее, на острова (Лихачев Д. 73–76). Наиболее плотно были населены кварталы между Мойкой, Фонтанкой и Крюковым кан. и в полосе за Фонтанкой от Невы до Забалканского пр., ограниченной на юге Обводным, на востоке — Лиговским пр. и Таврическим садом. Наименьшей была плотность населения на Выборгской стороне и на южной окраине от Забалканского пр. до Невы. Из-за дороговизны земли (в 1909 г. закладная цена на Невском — до 800 руб. за кв. саж. — Тилинский А. 110–155) застройка устремилась ввысь. Поскольку строить выше карниза Зимнего дворца не дозволялось, верхний этаж делали мансардным. Столица выделялась на фоне всей России благоустроенностью улиц и площадей. Расходы из городского бюджета по этой статье в приведении к версте улиц были здесь в 2,4 раза больше, чем в Одессе, и в 2,8 раза больше, чем в Москве. Все улицы были замощены. Фонари стояли в среднем через каждые 11 саженей (Степанов А. 1993. 297). И все-таки… «надо прожить несколько лет в Европе, чтобы почувствовать, что Петербург все еще не европейский город, а какая-то огромная каменная чухонская деревня. Невытанцевавшаяся и уже запакощенная Европа. Ежели он и похож на город иностранный, то разве в том смысле, как лакей Смердяков «похож на самого благородного иностранца». Как в частушке поется: Если барин при цепочке, Схожее впечатление у Блока в 1915 г.: «Я проехал как-то вверх по Неве на пароходе и убедился, что Пет<ербург>, собственно, только в центре… немецкий: окраины — очень грандиозные и русские и по грандиозности и по нелепости, с ней соединенной» (Блок А. VIII. 447). Городской транспорт: извозчики, конка, трамвай В 1914 г. Петербург занимал территорию площадью 88 кв. верст, простираясь с севера на юг на 12 и с запада на восток на 11 верст. При таких расстояниях остро чувствовалась потребность в средствах транспорта, которые давали бы жителям окраин возможность быстро, дешево и удобно сообщаться с центром города. «К сожалению, эта задача разрешена более или менее удовлетворительно пока только для города в собственном смысле слова; пригороды же остаются при прежних первобытных путях сообщения, что несомненно сильно тормозит их развитие», — писал в 1914 г. К. Н. Пажитнов (ПЖ. 52), имея в виду переход на городских железных дорогах с конной тяги на электрическую, который в столице происходил позднее, чем в других крупных городах империи. К этому времени протяженность линий с электрической тягой составляла 112 верст, с конной — 66 верст, с паровой — 9 верст. Пассажиров было перевезено в 1912 г. трамваем 252 млн. человек, на конке 21,6 млн., паровой тягой 8,4 млн. Трамвай сразу стал излюбленным способом передвижения петербуржцев. Транспортная подвижность их быстро возросла: если в 1905 г. приходилось 58 поездок на одного жителя, то в 1914 г. — около 140. Этот взрыв мобильности лишь отчасти может быть объяснен вытеснением жилья из центра и ростом территории города. До появления трамвая петербуржцы больше ходили пешком. Трамвай высвободил давно возраставшую потребность в быстрых и дальних поездках по городу. Поэтому работал он в чрезвычайно интенсивном режиме. Вагоны были переполнены, несмотря на то что зачастую трамваи следовали один за другим почти непрерывно, тем самым стесняя переходы и переезды через улицы. Особенно затруднительно было движение по Невскому пр. на участке от Адмиралтейского пр. до Гостиного двора (Енакиев Ф. 39, 41). По числу поездок наземным транспортом Петербург благодаря трамваю встал вровень с европейскими столицами. Но в Берлине, например, к 150 поездкам в год, совершавшимся на трамвае, добавлялось еще 100 поездок в метро, а в Париже к 100 трамвайным поездкам добавлялось 160 поездок в метро. Это сравнение говорит не о каком-то особенном удобстве планировочно-функциональной организации российской столицы, которое избавляло бы ее жителей от необходимости частых поездок. Очевидно другое: в городе с населением почти 2 млн. человек трамвай в качестве основного транспортного средства уже становился анахронизмом, потому что, как и до его появления, потребность в поездках возрастала быстрее тех возможностей, которые предоставляла сеть трамвайных линий. К 1913 г., когда в Лондоне, Париже, Берлине и даже в Будапеште, не говоря уж о крупнейших североамериканских городах, существовал метрополитен, а в Гамбурге и Буэнос-Айресе строительство метро подходило к концу, люди инженерного склада ума видели в метрополитене «своего рода патент на признание за городом мирового значения» (Енакиев Ф. 16). Вызревали первые проекты петербургского метрополитена. По предложению инженера Ф. Е. Енакиева первая линия должна была пройти по трассе, близкой направлению нынешней Кировско-Выборгской линии, но большей частью на эстакадах по уже существовавшим улицам с уходом под мостовую только на Знаменской пл. (Енакиев Ф. 41–58). Если бы Петербург обзавелся в те годы метрополитеном, подвижность его населения быстро достигла бы берлинско-парижского уровня — 250 поездок в год на одного жителя. В прозорливых головах — проекты метро, а на улицах наряду с переполненными трамваями — конки и бесконечные вереницы извозчиков, создававшие впечатление, будто в столице еще не кончился XIX век. Поскольку же извозчики были очень дорогим транспортом, то технический консерватизм столицы отдавал к тому же и выветривавшейся в других российских городах барственностью. Изредка встречавшиеся авто вносили в эту картину черточки европейской цивилизованности, экстравагантности, спортивности. Прогресс и отсталость сосуществовали рядом, удивляя российских провинциалов и гостей из Европы. Быт старого петербургского дома В этой и следующей главах изображены типы из разных слоев населения. Дополним эту картину перечнем социальных групп. В партере и ложах императорских театров, в клубах, в часы фланера на престижных улицах тон задавали родовая знать и высшее чиновничество. Их отпрыски наполняли привилегированные учебные заведения. Возглавляемыми ими учреждениями практически руководили люди помельче — вице-директора, столоначальники, как правило потомственные дворяне. Часам к 11–12 они являлись в свои департаменты; после нескольких часов работы над различными докладами и отношениями выходили на Невский пр. «нагуливать аппетит», а затем ехали обедать домой или в ресторан; вечером — посещение клуба, театра и неизменная игра в карты. Им старались подражать средние чиновники, а за средними тянулись мелкие, на которых ложилась основная масса бумажной работы. Эти уже не без труда сводили концы с концами. Много чиновников работало в частных акционерных компаниях, банках, страховых фирмах, правлениях частных железных дорог и т. п. Во главе их стояла финансовая аристократия, которая в погоне за почетом и роскошью стремилась не отставать от родовой знати. Лиц свободных профессий было в Петербурге больше, чем в любом другом городе России. Литераторов, ученых, художников, артистов привлекали сюда многочисленные издательства, научные и культурные учреждения. На адвокатов был большой спрос в столичных официальных и деловых кругах. Педагогов столица притягивала множеством учебных заведений и семейств, приглашавших воспитателей и учителей на дом. Врачи, фельдшера, дантисты легко находили работу в городе, отличавшемся нездоровым климатом и санитарным неблагополучием, а акушерки были необходимы в силу высокой рождаемости. Все упомянутые группы составляли, с семьями, около 1/7 численности населения столицы. Занятые же торгово-промышленной деятельностью (тоже с семьями) — 62,6 %. При этом 38,7 % населения были дворянами, купцами, почетными гражданами, мещанами и цеховыми, а остальные крестьянами (Чериковер С. 89–103). «Ярославль, Тверь, Рязань и Тула направляют в Петербург свои лучшие силы… обладающие такими качествами, как сила, ловкость, сообразительность. Даже сама Московская губерния из своих наиболее грамотных волостей посылает население в отхожие промыслы не в Москву, а в Петербург. То же делают и другие губернии России. Этот отбор совершается как на местах в виде родового тяготения к Петербургу, так и в этом последнем, производящем сортировку пришлого элемента, причем наиболее трудоспособные лица находят себе дело, а остальные, долгое время перебиваясь со дня на день, в конце концов уходят в Москву» (Мертваго А. 184). Приток мужской рабочей силы привел к преобладанию в столице мужского населения над женским. Этим Петербург был непохож на европейские столицы, где женщин было больше. Впрочем, эта разница понемногу сглаживалась: в 1896 г. на 100 мужчин приходилось здесь 77 женщин, а в 1900-м — 84. Легче всего крестьянам было устроиться на поденную работу. В 1897 г. поденщиков было в Питере около 40 тыс. Привыкнув к городу, большинство находило постоянные места в качестве дворников, чернорабочих или домашней прислуги, уступая поденные работы следующим волнам мигрантов. Домашней прислуги было в Петербурге свыше 100 тыс., преимущественно женщин, — больше, чем в любом городе Западной Европы. Так, из 1000 петербурженок состояло в прислуге 189, из 1000 мужчин — 59 (считая вместе домовую и домашнюю прислугу), в Лондоне же, соответственно, 42 и 7. Колоссальное количество прислуги в Петербурге было вызвано ее дешевизной, обусловленной огромным предложением; нетребовательностью ищущих такой работы; наличием множества семейств с достатком, а если и без надлежащего достатка, то воспитанием приученных пользоваться прислугой (Чериковер С. 104). Личной прислуги больше всего было в Литейной, Адмиралтейской и 3-м участке Казанской части: 16,3–18,5 чел. на 1000 жителей (Брокгауз I. XXVIII A. 284). Особенно завидными считались места швейцаров в богатых домах, отелях, ресторанах; кучеров; поваров и даже лакеев в дорогих ресторанах и кафе. Швейцары и дворники имели хоть небольшую квартирку, где могли жить с семьей. Кто мог, сам был готов платить немалые деньги тем, от кого зависел прием на такую службу. Прислуги другого типа — курьеров, сторожей, низших служащих в казенных, общественных и частных учреждениях, а также при больницах и лечебницах — насчитывалось 15 тыс. Перечисленные занятия давали заработок 150 тыс. неквалифицированных пришлых работников. Остальная масса крестьян шла в торгово-промышленные отрасли и в строительство (в 1900 г. в последнем было занято около 66 тыс. человек) (Чериковер С. 106, 107). Жители доходного дома Спрос на жилье в той или иной части города формировался типичными для данного места группами населения. Заказывая проект дома, владелец участка ориентировал архитектора на соответствующие цены найма квартир и аренды нежилых помещений. Рост населения столицы обеспечивал неуклонный рост доходов с недвижимости, не требуя от ее собственников забот о процветании города. В городском управлении они успешно тормозили инициативы представителей торгово-промышленного капитала («обновленцев»), пытавшихся проводить прогрессивные реформы. Петербург превосходил крупнейшие города Европы размером и населенностью домов, о чем дает представление следующая таблица (Брокгауз. II. XVII, стб. 882, 883). 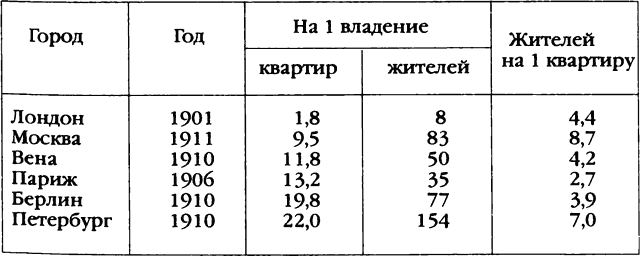 Отношение петербуржцев к новым каменным громадам в 4, 5, 6 этажей не было единодушным. «Иные дома стоят еще без дверей и окон, из них тянет, как из погребов, сыростью и холодом, а уже в газетах пестреют объявления о сдаче квартир в них. Нарасхват идут!» (Минцлов С. 92). Со своей стороны, специалисты по санитарии и гигиене находили условия жизни в больших доходных домах крайне нездоровыми, особенно ввиду постоянно возобновлявшихся эпидемий (ПЖ. 57). Литературно-художественная элита была охвачена предчувствием гибели всего, что еще оставалось в столице человечного, под натиском антигуманной стихии, олицетворяемой брандмауэрами, сжимающими хрупкий мир старого города (Каганов Г. 159–161). Под мнимой угрозой буржуазной дегуманизации и утраты прежних основ и ценностей жизни в кругу художников «Мира искусства» возник эстетский культ петровского и пушкинского Петербурга. Наконец, в либерально настроенных кругах судили о доходных домах не по строительным их достоинствам, а по отрицательным социальным последствиям слишком плотного их заселения, вызванного дороговизной квартир. Основанием для таких суждений служило сравнение цен квартир в Петербурге и в европейских столицах. Получалось, что петербургские домовладельцы — самые бесчеловечные в Европе (ПЖ. 57). Сопоставление с отечественными городами дает иную картину. Хотя за квартиры свыше 6 комнат в Петербурге приходилось платить в 3,5 раза дороже, чем в Саратове, и на 18 % дороже, чем в Москве, зато это было на 10 % дешевле, чем в Киеве, и на 40 % дешевле, чем в Лодзи. Квартиры в 4–6 комнат были в 2,4 раза дороже саратовских и всего лишь на 14 % дороже московских, тогда как в Киеве они стоили в 2,3 раза, а в Варшаве и Лодзи почти вдвое дороже, чем в Петербурге. Наконец, 1–3-комнатные квартиры во всех крупных городах империи, кроме Харькова, Саратова и Риги, были дороже петербургских (например, в Лодзи — в 2,3 раза). Итак, на российском фоне цены на квартиры в столице были умеренные, причем особенно благоприятными были условия найма небольших квартир — как раз тех, которые приходилось снимать наименее обеспеченным петербуржцам. Добавим к этому, что дрова здесь были дешевле, нежели в каком-либо из крупных городов, — в полтора раза дешевле, чем в Москве, а за электричество приходилось платить так же, как в Москве или Саратове (Степанов А. 1993. 299, 300), — и нас уже не удивит жизнерадостный тон этой главы, резко противоречащий суждениям сангигиенистов и экономистов, прилагавших к петербургской действительности европейские критерии и тем самым получавших неутешительные выводы, какие они и хотели получить. По уровню комфорта столичные квартиры были ближе к европейскому стандарту, чем в каком-либо ином городе России. Строительные нормативы предписывали иметь в квартире средней величины «переднюю — 3 кв. саж; кабинет — 6 кв. саж.; зал и гостиную — 12 кв. саж.; столовую — 10 кв. саж.; спальню и будуар (разгороженные драпировкой) — 6 кв. саж.; детскую — 6 кв. саж.; комнату для гувернантки — 6 кв. саж.; комнату для прислуги — 8 кв. саж.; кухню с кладовой — 6 кв. саж. Итого 63 кв. саж. Нормативная годовая плата за такую квартиру составляла 750 руб. (без дров). На самом же деле она была выше — от большого спроса на такие квартиры» (Тилинский А. Ч. II. Отд. 2. 25, 26). В среднем петербургская квартира состояла из 4–5 комнат, из коих 3 комнаты были чисто жилыми. На каждую жилую комнату (т. е. не считая кухонь и прихожих) приходилось в 1900 г. 2,4 человека. Последний показатель имел тенденцию расти (Енакиев Ф. 34). Обитатели ночлежек и сиротских домов Чем богаче город, тем легче в нем прожить без работы. Нищие в центре города — признак его благополучия. В этом отношении Петербург, где нищие составляли 1 % населения, сильно уступал Москве (7 %). Мест в ночлежках здесь было вдвое меньше, чем в Москве, но на место в Питере приходилось 5 бездомных, а в Москве — 16. Причина популярности «белокаменной» у всероссийской нищей братии не только в богатстве и радушии москвичей, но и в особенностях методов, какими действовала в обеих столицах полиция и «Особое присутствие по разбору и призрению нищих». Московская полиция была бессильна держать под контролем более чем сотню тысяч лиц, предпочитавших побираться, но не работать. Там ежегодно доставляли в «Особое присутствие» всего лишь около 8 % имевшихся в городе нищих. И хотя московское «Присутствие» имело право определять их на принудительные работы и располагало несравненно большей, чем в Петербурге, емкостью рабочих мест для них, Москва предпочитала предоставлять свой работный дом и дома трудолюбия не нищим, а тем из бедняков, кто действительно искал работу. По существу, борьбу с нищенством подменили в Москве приносившей доход благотворительностью, а нищих предоставили самим себе (что, судя по их количеству, вполне их устраивало). В Петербурге все было иначе. Здесь в «Особом присутствии» в течение года оказывался едва ли не каждый бродяга, а иные даже по нескольку раз. Рабочих мест для них было очень мало, к тому же здешнее «Присутствие» не обладало правом принуждать их к работе. Подавляющее большинство нищенствующих высылали, а остальных устраивали в небольшие мастерские трудовой помощи, не стараясь перехватить у благотворительных учреждений попечительство над ищущими работу бедняками. Однако бродяги сумели и высылки превратить в постоянный источник существования, вновь и вновь возвращаясь в столицу. Мужик, вернувшийся в 19-й раз, рассказывал: «Если бы нас не высылали — хоть с голоду помирай. Я нарочно не беру паспорта из волости… Без паспорта нас заберут, посадят в тепло, накормят, обуют, оденут, а с паспортом хоть с голоду помирай… Вот примерно теперь, мы идем в Питер, все без паспорта, все высланные. Значит, нас сейчас же заберут. И хорошо. Недели две мы посидим, отдохнем, поправимся, потом недели две, а то и месяц подержат нас в пересыльной; здесь каждому дадут по полушубку, теплые валенки и отправят на родину этапом… Доставят на место, спросят: „Шубу хочешь отдать?“ Зачем отдавать?! „Нет, мол, не хочу“. Ну, и оставят тебе шубу… Эту шубу сейчас „по боку“. Выручишь рублей пять, и обратно в Питер, за другой шубой. <…> Только и живу этим. Летом нам вместо шуб армяки дают; те дешевле, а тоже хорошие, новые армяки» (Животов Н. II. 44, 45). «Целые деревни в Себежском уезде Витебской губернии переселяются на осень и зиму в Петербург нищенствовать. В Макарьевском уезде Костромской губернии целые волости нищенствуют. Это их отхожий промысел. В волости имеются мастера, фабрикующие паспорта, свидетельства о пожарах, градобитиях, даже дозволения на сборы на построение храмов» (Бахтиаров А. 1903. 61). По подсчетам публициста — сторонника замены высылки принудительным трудом в работном доме — бродяги стоили Петербургу более 1 млн. руб. в год (Животов Н. II. 45). Приходится признать, что за безалаберностью московской полиции крылась экономическая и нравственная мудрость: бюджет города освобождался от миллионных трат, которые превращались в акты милосердия москвичей, к обоюдному удовлетворению имущих и неимущих (Степанов А. 1993. 301). Сознавать это ныне особенно досадно ввиду того, что сохранилось свидетельство отменного здоровья тогдашних обитателей петербургского дна: «Что достойно внимания из быта бродяжек-попрошаек — это долголетие их! Здесь есть юбиляры, по 50–60 лет занимающиеся нищенством, есть старики и старухи 80–90 лет, еще в молодости впавшие в бедность… И какие все бодрые, молодцеватые!.. Кровь с молоком, хотя едят они какую-то падаль, и то не ежедневно, ночуют, случается, под открытым небом… В трех ночных приютах, где я ночевал за время своего интервью, было 239 бродяжек; из них 170 седых старцев, из этих 170 самый молодой 58 лет, а самый старый 103 лет. <…> Нищие и бродяжки ведут сравнительно спокойную от душевных волнений и забот жизнь… Их потребности — грошовые, удовлетворяемые подаянием; их заботы ограничиваются тощим желудком и полицейским обходом. Между тем сколько волнений и тревог приходится переживать нам с вами, читатель, особенно имеющим семью?! У бродяжек не бывает ни порока сердца, ни нервных ударов, апоплексии, подагры и т. п… нет сидячей жизни, развивающей хронические болезни, нет простудных болезней, потому что организм их привык ко всему; нет у них и ожирения… Громадное большинство (бродяжек. — А. С.)… счастливо своим положением, не желая ничего лучшего и бегая от всяких богаделен и приютов» (Животов Н. II. 18, 19). В 1902 г. в Петербурге под эгидой Министерства внутренних дел действовало 93 благотворительных общества. К ним надо прибавить общества, имевшиеся в каждом приходе. Обширную благотворительную работу вела Собственная е. и. в. канцелярия по учреждениям императрицы Марии. Лица, вносившие пожертвования в фонд этого ведомства, имели право носить мундир, великолепие коего соответствовало размеру пожертвования. Это сделало филантропами многих купцов-толстосумов из числа почетных граждан (Ривош Я. 196). Самостоятельно действовало Императорское Человеколюбивое общество. Свою сеть приютов, инвалидных домов, лечебниц, амбулаторий имело Российское общество Красного Креста. В 1896 г. всех благотворительных обществ, братств, попечительств, комитетов и корпораций насчитывалось в Петербурге 334 (в Москве 164). Сумма их капиталов составляла 157 млн. руб. (в Москве 46 млн.). На эти средства и на добровольные частные пожертвования (около 2 млн. в год как в Петербурге, так и в Москве) содержалось в Петербурге (в скобках данные по Москве): 90 (120) богаделен, 146 (56) детских приютов, 79 (61) учреждений медицинской помощи, 197 (123) школ благотворительного характера, 35 (10) дешевых столовых, 6 (3) ночлежных домов, 19 (5) домов трудолюбия, 23 (12) яслей, 34 (40) дешевые квартиры, 9 (19) народных читален; странноприимных домов в Петербурге не было (в Москве — 4). Всего в столице насчитывалось 638 таких учреждений (в Москве 453). В том же году в Петербурге смогло воспользоваться благотворительностью 615 тыс. человек (в Москве 438 тыс.) (Россия. 421–423). Религиозная жизнь горожан В 1910 г. в Петербурге на 1,5 млн. русского населения приходилось примерно по 70 тыс. белорусов и поляков, около 50 тыс. немцев, 35 тыс. евреев, 25 тыс. эстонцев, по 17–18 тыс. финнов, латышей и украинцев, 11 тыс. литовцев, 7 тыс. татар, по нескольку тысяч французов, шведов и англичан, около тысячи армян, по нескольку сотен карелов, итальянцев, чехов, словаков, греков, грузин — всего около 60 национальностей (Юхнёва Н. 1982. 10, 12). Национальные общины держались веры своих предков и стремились не отступать от завещанных ими обрядов. Каждая община выполняла миссию заступничества за своих единоплеменников, рассеянных по необъятному пространству Российской империи. Именно здесь велась ими неустанная работа по выработке начал веротерпимости. В результате столица отнюдь не либерального режима, особо покровительствовавшего русской православной церкви, столица государства, в котором не только государь, но и наследник, и императрица, и супруга наследника могли быть только православными (Айвазов И. 45), — Петербург стал образцом веротерпимости не только для России, но и, как неоднократно отмечали приезжие иностранцы, — для всего мира. Вершиной этой традиции стало утвержденное Николаем II 17 апреля 1905 г. положение «Об укреплении начал веротерпимости». Государство объявило себя чисто правовым институтом, чуждым интересов какой-либо конфессии. Каждому подданному гарантировалась полная свобода исповедания его веры, отправления богослужения и духовных треб по обрядам этой веры, перехода из одного христианского вероисповедания в другое христианское же (переход из христианства в нехристианскую веру узаконивался для тех, кто сам или чьи предки были прежде нехристианами); всем верующим давалась свобода обращения иноверцев путем убеждения; значительно облегчалось строительство неправославных храмов. Благодаря этому законодательному акту в Петербурге успели построить до революции крупнейшие в Европе соборную мечеть и буддийский храм. Как в обычном русском городе, в 1910 г. 86 % населения Петербурга были православными, но магометан здесь было меньше, а иудеев, католиков и особенно протестантов — гораздо больше обычного (католиков 59 тыс., протестантов 90 тыс. — соответственно в 3,5 и в 4 раза больше, чем в Москве (ГР)). Накануне революции в столице было 477 православных, 8 единоверческих, 14 старообрядческих, 31 римско-католический, 27 лютеранских, 3 реформатских, 3 англиканских, 2 армяно-грегорианских храма, дом баптистов, часовни методистов и ирвингиан, а также указанные авторами нехристианские храмы и молельные дома. В царствование Николая II число храмов в Петербурге выросло на треть (Антонов В. 1994. 20, 249–264). Православная церковь зависела от государства в большей степени, чем неправославные общины. Общественная роль православного духовенства по существу сводилась к богослужению. Обязанности по регистрации рождений и браков и участие в системе образования не обеспечивали ему желаемого влияния в жизни, но лишь подчеркивали его отчужденность. В начале 1905 г. митрополит Антоний в «Памятной записке» просил царя созвать совещание иерархов церкви с участием компетентных лиц из клириков и мирян (но без официальных представителей государства) для выработки предложений об автономии церкви и ее «праве на инициативу»; о гарантиях свободы церкви от какой бы то ни было прямой государственной или политической миссии и ее свободы во «внутренних делах»; о предоставлении приходу статуса юридического лица с правом владения собственностью; о допущении духовенства к участию в земской деятельности; о предоставлении епископам мест в Государственном совете и прямого доступа в Совет Министров, минуя посредство обер-прокурора Святейшего Синода. Либеральные профессора духовных академий в своей «Памятной записке», подписанной председателем Комитета министров С. Ю. Витте и представленной на совещание по церковным делам при этом комитете, называли существовавший церковный режим «незаконным», поскольку он держал церковь «в состоянии паралича»; отстаивали принцип соборности, требуя полного участия мирян в предполагавшемся Соборе и даже избрания кандидатов от духовенства общинами мирян. Тогда же 32 петербургских священника опубликовали манифест с требованием созыва Собора с широкой повесткой дня, включавшей вопрос избрания епископов их епархиями. В ответ Святейший Синод, возглавляемый обер-прокурором К. П. Победоносцевым, разослал епархиальным архиереям указ от 27 июля 1905 г., требовавший от них описания тех сторон жизни русской церкви, которые, по их мнению, нуждались в изменениях или реформе. Отзывы с мест поступили в канцелярию Синода к декабрю 1905 г., т. е. уже после «Октябрьского манифеста» и отставки Победоносцева. В них проявилось почти единодушное стремление духовенства к реформам и к большей независимости церкви от государства. Многие высказались за созыв Собора с допущением к голосованию клириков и мирян; за децентрализацию церковного управления, восстановление патриаршества и расширение участия духовенства в общественной жизни; за расширение компетенции церковных судов (особенно в бракоразводных делах); за проведение регулярных епархиальных съездов клира и мирян; за усиление роли прихода как ядра церковной жизни и укрепление его канонического и юридического положения; за совершенствование богословского образования; наконец, большинство епископов выражало неудовлетворенность по поводу недоступности большей части литургических обрядов для массы верующих, а некоторые предлагали перевести литургические тексты с церковнославянского на современный русский язык (Мейендорф И. 45–48). В январе 1906 г. Предсоборное присутствие начало подготовку Поместного Собора. Однако открылся он слишком поздно — 15 августа 1917 г. Несмотря на симптомы кризиса, тревожившие передовых представителей православной церкви, в жизни православного большинства столицы традиции религиозного быта были очень сильны. Годовой распорядок жизни петербуржцев определялся церковным календарем. В дни больших церковных праздников православные храмы были полны народа — а ведь они вмещали одновременно до 400 тыс. человек, т. е. около половины общего числа православных и единоверцев в возрасте от 10 до 70 лет (Тихомиров Н. 161)! Но «интеллигенция почти не замечала народного православного Петербурга с его чудотворными иконами, живыми угодниками, накаленной — быть может, как нигде в России — атмосферой пламенной веры» (Федотов Г. 211). Этот упрек можно, пожалуй, адресовать и авторам данной главы. Рынки и торговые ряды «Утробой Петербурга» назвал Н. П. Анциферов район рынков, «омываемый мутными водами Фонтанки и Екатерининского канала» на протяжении от Невского до Английского проспекта. В Большом Гостином дворе размещалось около 200 лавок. На Суконной линии (по Невскому) — галантерея, мануфактура, парфюмерия, писчебумажные товары, книги. На Большой и Малой Суровских (со стороны Думы и по Чернышеву пер.) — предметы дамского туалета (вообще «суровский товар» — это шелк, бумажные и легкие шерстяные ткани). На Зеркальной (по Садовой ул.) — золото, серебро, бронза, металлические изделия, галантерея, меха, парфюмерия, посуда, сукна, инструменты. На не сохранившейся Перинной линии (за портиком Руска) — постельные принадлежности, товары для дам и для портных, парча, галун, ленты, басон (т. е. плетеные шнуры, тесьма, бахрома, кисти для украшения одежды, мебели, драпировок). На Банковской (от Садовой до Екатерининского канала, задней стороной к Ассигнационному банку) — писчебумажный и суровский товар, мануфактура. Между Перинной линией и каналом, по Чернышеву пер., находился Малый Гостиный двор: мебель, кожевенный и железо-красильный ряды. На территории нынешнего Апраксина двора находились Мариинский рынок (угол Садовой и Чернышева пер.) со Старым Щукиным двором и собственно Апраксин двор (официально — Александровский рынок: по Садовой от Мариинского рынка до Апраксина пер.) с Новым Щукиным двором со стороны Фонтанки. В лавках по Садовой — готовое платье, белье, обувь, ткани, шубы. По Чернышеву пер. — гастрономия. В пассаже внутри Мариинского рынка — мебель, басон; в проезде через двор — семена и посуда. На Старом Щукином дворе — живая домашняя птица, битая дичь, а летом — яйца и фрукты. За лицевым корпусом Апраксина двора торговали под открытым небом мебелью, обивочными тканями, зеркалами, полотном, железом, книгами, иконами, драгоценностями, кожевенным и суровским товаром, всяческим хламом: «Свечку погаси, а подсвечник в Апраксин продать снеси» (Синдаловский Н. ПФ. 234). На Новом Щукином дворе — фрукты, ягоды, варенье, сушеные и моченые грибы, пряности. От Сенного рынка до Фонтанки по Горсткиной ул. тянулись продовольственные склады, здесь же шла оптовая торговля скотом. Во время постов Горсткин рынок был главным среди торговавших рыбой. По Забалканскому пр. от Сенного до Фонтанки торговали с лотков, а у моста был Обуховский рынок. Далее по Садовой шли Александровский Новый рынок (наши авторы называют его просто «Александровским») и Никольский. У Калинкина моста — Лоцманский рынок. Из торговых рядов вне «утробы Петербурга» надо, прежде всего, назвать Пассаж: модное платье, белье, искусственные камни, предметы домашнего обихода, парфюмерия, галстуки, золото, серебро, оптика; к услугам посетителей — агентство АО «Лионский кредит», сберкасса, парикмахерская, фотоателье, кинематограф и театр. Другие рынки в центре — Круглый на Мойке у Конюшенного моста (мясной и зеленной товар); Литовский на Офицерской ул. у Крюкова канала и Пантелеймоновский (ранее Пустой) на Гагаринской близ Соляного городка (специализация та же); Мясной (Ямской) на углу Николаевской и Разъезжей (мясо, рыба, овощи, мука). На периферии — Александровский Старый (Мытный) рынок на Старо-Невском пр. (оптовая торговля соленой рыбой, хлебом, мукой, рогожами, дегтем, махоркой, телегами, железом, кожами, сапогами, войлоком); Хлебная биржа на Калашниковой наб. (оптовая торговля хлебом, жировыми и масляными товарами, рыбой); Сенная биржа у Ново-Каменного моста на Обводном канале. Ското-пригонный двор на Обводном у Варшавского вокзала; рынок купца Васильева на углу Забалканского пр. и Заставской ул. (мясо, молочные продукты, зеленной товар); Новый рынок за Балтийским вокзалом (торговля сеном). На Васильевском острове — Чайный рынок между Тучковой наб., Биржевой линией и Тифлисской ул.; Новобиржевой Гостиный двор, где ныне исторический и философский факультеты университета (оптовая торговля); Андреевский (суровский товар, галантерея, мебель, мясо, рыба, фрукты, в известные дни — «чухонские» молочные и прочие сельскохозяйственные продукты); рынок купца Ширяева по Малому пр., 61 (мануфактура, суровский товар, готовое платье, мясо, зелень); Ново-Гаванский на месте нынешней гостиницы «Гавань» (мясо, зелень, фрукты). На Петербургской стороне — Сытный рынок; Петербургский центральный рынок севернее сада «Аквариум» (готовое платье, суровский товар, обувь, шляпы и фуражки, галантерея, книги, мебель, прокат автомобилей); рынок купца Дерябкина на Малом пр. (суровский товар, галантерея, мясо). На Выборгской — Охтинский рынок на углу Большеохтинского пр. и Пороховской ул. (центр доставки молочных продуктов «чухнами»; до постройки моста Петра Великого летом по утрам яличники перевозили в город разносчиц-«охтенок» с их товаром); Большой Сампсониевский близ церкви св. Сампсония (галантерея, суровский товар, готовое платье, посуда, зеленной и сельдяной товар, мясо, фрукты); рынок купца Селезнева (готовое платье, посуда). Надо упомянуть и о Новодеревенском рынке купца Буфетова (мануфактура, галантерея). «Рынки в Санкт-Петербурге более чем неудовлетворительны как по гигиеническим условиям хранения и продажи съестных припасов, так и по своим размерам» (Енакиев Ф. 75). Магазины и лавки, рестораны и трактиры В 1906 г. в Петербурге было 12 132 торговых предприятия, в 1914 г. — около 16 500. Из них почти 94 % приходилось на розничную торговлю. Сумма их годового оборота была близка к половине всего торгового оборота столицы. Этим Петербург резко отличался от Москвы, где доля розничной торговли в общем товарообороте была гораздо ниже, так как Москва была от века общероссийским центром оптовых сделок (Степанов А. 1993. 297). В структуре петербургского товарооборота, представленной ниже (ПЖ. 307, 308), бросается в глаза господствующее положение торговли предметами обихода. Это признак высокого жизненного уровня столичного обывателя и умелой постановки торгового дела. 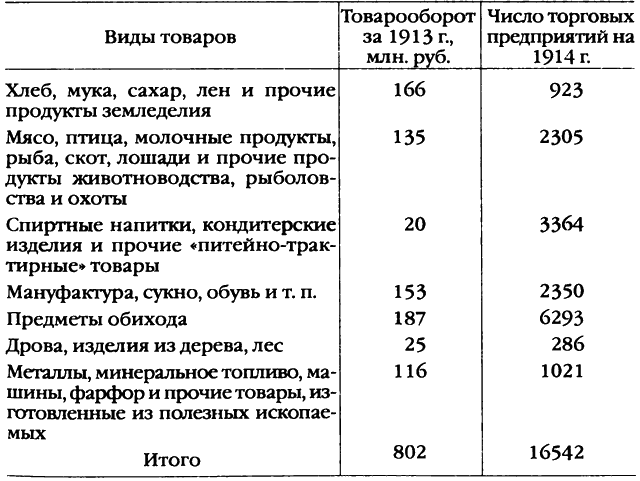 В наше время бытует представление о безумной дороговизне жизни в столице Российской империи. Статистические данные этого не подтверждают. Хотя ржаной хлеб и был в Петербурге, смотря по сезону, на 18–28 % дороже, чем в Москве или Саратове, зато пшеничный продавали круглый год по среднерусским ценам. Мясо лучших сортов зимой было дешевле, чем в каком-либо другом крупном городе империи, и только худшие сорта весной и летом отличались дороговизной, но осенью и они шли по средним ценам (ассортимент мяса в Петербурге был вдвое разнообразнее, чем в Москве, которая, в свою очередь, была в этом отношении выше значительной части провинциальных городов). Соль и вправду была постоянно на 26–28 % дороже московско-саратовских цен. Зато сахар в первое полугодие продавался по умеренным ценам и только во втором становился на 6–14 % дороже, нежели в Москве. Как видим, прожиточный минимум в столице находился на среднем уровне. Но существовать на этом уровне истинный петербуржец счел бы ниже своего достоинства. Многие, лишь бы не уронить престиж, жили не по средствам, с трудом сводя концы с концами (Степанов А. 1993. 300). О петербургских ресторанах один персонаж А. Т. Аверченко вспоминает: «Мне больше всего нравилось, что любой капитал давал тебе возможность войти в соответствующее место: есть у тебя 50 рублей — пойди к Кюба, выпей рюмочку мартеля, проглоти десяток устриц, запей бутылочкой шабли, заешь котлеткой даньон, запей бутылочкой поммери, заешь гурьевской кашей, запей кофе с джинжером… Имеешь 10 целковых — иди в „Вену“ или в „Малый Ярославец“. Обед из 5 блюд с цыпленком в меню — целковый, лучшее шампанское — 8 целковых, водка с закуской — 2 целковых… А есть у тебя всего полтинник — иди к Федорову или к Соловьеву: на полтинник и закусишь, и водки выпьешь, и пивцом зальешь…» (Аверченко А. 269). Одежда и мода В области моды Петербург задавал тон всей России. Если оставить в стороне анахронизмы придворного и аристократического обихода, то в глаза бросается прежде всего общеевропейская тенденция — стирание национальных и сословных особенностей в костюме. Конечно, лишь до известного предела: костюм и в это время говорил о принадлежности человека к определенному социальному кругу. Но если в XVIII–XIX вв. одежда очень внятно обозначала социальный статус своего хозяина, то в начале нашего столетия, на фоне единообразия городского костюма, знаки социальной принадлежности сместились на уровень аксессуаров и нюансов, которые современниками улавливались моментально, а нам подчас кажутся едва заметными. Дамам диктовал моду Париж, господам — Лондон. Законодательницей дамских мод в Петербурге была мадам Бриссак. «Эта портниха сколотила целое состояние и приобрела в столице особняк. Все ее клиентки, в том числе сама царица, жаловались на цены, которые та заламывала» (Масси Р. 153). Но понемногу и у дам завоевывал популярность английский стиль. Парижские модельеры вводили их в шикарный салон, вовлекали в изящную эротическую игру, а Лондон ставил выше всего удобство и приспосабливал дамский туалет к изменениям в образе жизни, вызванным эмансипацией, успехами гигиены и, главное, развитием спорта (авто, велосипед, верховая езда, крокет, теннис, плавание). В мужской одежде очень заметно было также влияние Вены: мощная австрийская швейная промышленность экспортировала мужские костюмы во все страны (Ривош Я. 101). Основным распространителем моды были специальные журналы. В 1915 г. в Петербурге издавалось 11 журналов мод: «Белье и вышивки», «Венский шик», «Вестник моды», «Дамский мир», «Детское платье и белье», «Искусство портных», «Модный курьер, модный свет и модный магазин», «Модный свет», «Моды для всех», «Парижская мода», «Портной». На моду влиял и театр. Часть публики (особенно значительная среди завсегдатаев Михайловского театра, где выступала французская труппа) шла на спектакли только для того, чтобы посмотреть на присланные из Парижа туалеты примадонн. Мода распространялась также фотографическими открытками, изображавшими «этуалей» и красавиц на любой вкус, и кинематографом, увлечение которым начиная с 1907 г. приобрело эпидемический размах. Столичная аристократия и крупная буржуазия шили костюмы за границей либо у иностранных портных, работавших в Петербурге. Обычно шили у постоянного портного, который зачастую имел в мастерской манекен, сделанный по фигуре заказчика. У портного же имелся ассортимент материй как кусками, так и в образцах-каталогах английских, русских и лодзинских фирм. В крупных портновских мастерских хозяин одновременно был закройщиком, а шили наемные мастера, причем у иностранных портных в Петербурге мастера были русские. Качество работы было очень высоким. Русские портные ездили совершенствоваться в Лондон и Вену; в их мастерских в рамках под стеклом висели дипломы об окончании портновских академий. Быть портным было выгодно: на одном только Невском пр. в 1914 г. находилось 76 портновских ателье и мастерских. Помимо портных, шивших все виды и типы костюмов, были специалисты по определенному типу костюма: шившие мундиры для военных (в этой области русские портные считались лучшими в Европе) и для чиновников различных ведомств, облачения духовенства, обычные костюмы или одежду для лакеев. Портные самой высокой квалификации шили только фраки, визитки, сюртуки и смокинги (Ривош Я. Там же). Менее обеспеченные жители столицы одевались в «домах готового платья», где на вывесках рядом с фамилией владельца частенько красовалась надпись «Венский шик». Опять-таки на одном только Невском к их услугам имелось более 80 магазинов готового платья и 40 модных магазинов. Обилие на Невском заведений, предлагавших все необходимое для того, чтобы выглядеть петербуржцем, ныне трудно вообразить: магазинов тканей — 76, галантерейных — 51, белья — 44, обувных — 31, суконных — 22, торгующих золотом и серебром — 21, парикмахерских — 20, торгующих шелком — 16, торгующих мехами и ювелирными изделиями — по 14, магазинов головных уборов — 13, перчаток — 12, вышивки и кружев — 11, полотна и холста — 8, модисток (как называли мастериц, изготовлявших дамские шляпы) было на Невском 7, магазинов корсетов и парчи — тоже по 7, дамских рукоделий и суровского товара — по 6, искусственных камней — 5, ювелирных и сапожных мастерских — по 4, магазинов кожи — 4, трикотажных изделий и зонтиков — по 3, басонов, галстуков, шерсти — по 2, золотошвейни — тоже 2, мастерских белья и туфель — по одной. Сад «Буфф» и народные развлечения В 1897 г. настал конец любимой праздничной традиции петербуржцев — масленичным и пасхальным гуляньям на Царицыном лугу. Народ шел туда, «привлекаемый пестротой и яркостью всей обстановки, создававшейся на это время на громадной площади, оглушительным хаосом разнообразных звуков, бесчисленностью всяких развлечений, увеселений и забав и, наконец, исключительным, повышенным темпом всех впечатлений и действий». Вдоль Лебяжьей канавки стояло 4–5 театров, каждый вмещал по 1000 зрителей и давал в день по 8–10 представлений. Параллельно им теснились 2–3 балаганчика, зверинцы, цирки, панорамы, а между ними — десятки качелей, каруселей и стрельбищ, райки, ширмы с Петрушкой, торговые постройки. Вдоль Павловских казарм высились две катальные горы (Конечный А. 37, 38). Лучшим считался театр купца А. П. Лейферта «Развлечение и польза», где режиссером был А. Я. Алексеев-Яковлев. Стремясь сделать площадное зрелище «концентрированным, радостным, таким же пестрым и ярким, как само гулянье, кипевшее вокруг», Алексеев ставил «разговорные» пьесы с «ослабленным» сюжетом, вводил сценические эффекты, сокращал тексты, чтобы заставить актеров действовать. «Примитивные пьесы, непременно с выстрелами, сражениями, убитыми и ранеными, примитивные актеры с лубочно намалеванными лицами и неуклюжими движениями. Не говоря уже о простонародье, которое валом валило в балаганы, где зрители с увлечением участвовали в игре бурным смехом или возгласами поощрения и негодования, но и так называемая „чистая публика“ охотно их посещала. Очевидно, в этом народном лубке было нечто от подлинного искусства… Балаганы были, может быть, единственным местом старого Петербурга, где в одной общей толпе смешивались люди всех кругов и состояний», — вспоминал В. А. Оболенский (Конечный А. 41). В балаганчиках шли военно-исторические постановки, народные сцены и сказки, водевили и фарсы, «разбойничьи» и бытовые пантомимы, феерии-арлекинады, показывали «туманные» и «живые» картины, выступали кукольники, фокусники, певцы, танцоры, музыканты, на балконах цирков дурачились клоуны. Зазывалы обещали показать «теленка о 5 ногах; американку-геркулеску — огнеедку; жену и мужа — великаншу и карлика; девицу Марию, самую толстую и колоссальную, показываемую первый раз в России; феномена, без вреда для здоровья глотающего паклю; факира, безболезно протыкающего себя саблей во все части тела» (Конечный А. 42). Рядом можно видеть полногрудых русалок в бочках с водой; «дикого американского человека» в оковах, страшно рычащего и готового сожрать живую курицу; тюленя в жбане, привезенного самоедом из-за Полярного круга; всеобщего любимца Петрушку (Лурье Л. 172). Привлеченный вывеской «Панорама всего Петербурга», народ набивался в палатку, после чего открывалась ее задняя стена с натуральным видом на город. Более всего публика любила выступления карусельного краснобая: водрузившись на перила карусели, в шапке с бубенцами и огромной бородой из пакли, «дед» (обыкновенно из солдатиков-балагуров) импровизировал беседу. «Горе тому, кто попадал ему на зубок! Старик буквально забросает его шутками, иногда очень меткими и злыми, почти всегда нецензурными». В 90-е гг. появились новые аттракционы: карусель в виде парусных лодок, которые, кружась, покачивались, как на волне; «американские горы»; перекидные качели обрели очертания паркового «Колеса обозрения» (Конечный А. 41–43). Гулянья «на балаганах» подвергались нападкам с разных сторон. В этом хоре звучали и брюзжание снобов, и интеллигентская нетерпимость к искусству без «идей», и наставительные голоса моралистов, знающих, как надо воспитывать народ, и унтер-пришибеевское «Наррод, расходись! Не толпись! По домам!» Все это слилось в приговор гуляньям как явлению, «оскорбляющему общественную нравственность». Под предлогом высочайшего смотра войск в 1897 г. пасхальное гулянье перенесли с Марсова поля на Преображенский плац. Владельцы больших балаганов отказались участвовать в этом празднике: возводить после масленицы постройки второй раз было бы разорительно. В 1898 г. «высочайшим соизволением» гулянья перенесли на Преображенский и Семеновский плацы. Семеновский плац — место казни «первомартовцев» — не был подходящим местом для увеселений. Масленая неделя 1898 г. принесла убытки устроителям балаганов, после Пасхи содержатели театров устранились от участия в народных праздниках. Масленые гулянья 1899 г. устраивало Общество дешевых столовых и чайных: на Семеновском плацу уныло торчал балаганчик, не было ни катальных гор, ни каруселей с «дедом». Пасхальные гулянья 1899 г. прошли на Преображенском плацу, где воздвигли 3 балагана, несколько каруселей и силомеров; в балагане «Электрический мир» демонстрировали кинематограф. 1899 г. оказался последним в истории гуляний «на балаганах». Организацию народных увеселений прибрало к рукам Попечительство о народной трезвости. 12 декабря 1900 г. был дан первый спектакль для рабочих в построенном арх. Г. И. Люцедарским на средства Попечительства огромном театре в Александровском парке при «Заведении для народных развлечений императора Николая II» (Народном доме), а 21 декабря театр открылся официально исполнением в присутствии высочайших особ оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя». Зал имел около 3000 мест, из них половина — «сидячих». В 1910–1911 гг. Люцедарский пристроил к этому театру (ныне «Балтийский дом») «Новый театр» более чем на 3000 мест (ныне Мюзик-холл) со сценой больше, чем в Мариинском театре. Первый театр отдали драматической труппе, во втором шли оперы. Первую оперную антрепризу держал здесь Н. Н. Фигнер, в благотворительных спектаклях часто выступал Ф. И. Шаляпин (Алянский Ю. 158). Спектакли Народного дома были триумфом просветительской идеи садов для «неразборчивой публики невысоких слоев», которую считали нужным «поучать, развлекая», путем адаптации профессионального искусства к «народному» вкусу (Конечный А. 38, 44). В результате возникло «массовое» искусство, не наследующее ни классическую, ни фольклорную традицию. Репертуар состоял из пьес, посвященных отечественной истории (в особенности военной), приключенческих пьес и мелодрам. Благодаря фантазии, изобретательности и режиссерскому опыту заведовавшего театральной частью Алексеева-Яковлева и блестящим декорациям С. Н. Воробьева публика приходила в восторг независимо от качества пьес. По воскресеньям и праздникам не хватало билетов, заполнялись стоячие места (Петровская И. 1994. 265–270; 1990. 78). Но простонародье шло в Народный дом прежде всего по привычке: Александровский парк издавна был популярным местом гуляний. Театры же привлекали бывших завсегдатаев балаганов только «обстановочными» и «костюмными» пьесами и феериями, которые давались по выходным. Основной публикой в них был не тот народ, который они были призваны просвещать, а «средний обыватель»: полуинтеллигенция, семьи средних и мелких чиновников, «жуирующая, но небогатая молодежь» (Петровская И. 1994. 264), «преображенцы, семеновцы-гиганты со своими зазнобами — горничными из графских домов. У зазнобы в ушах барынины бриллианты (они потом станут ее собственностью)… В деревню они оба не вернутся, на барынины бриллианты мечтают открыть пивную или публичный дом» (Милашевский В. 27). Тут и речи не могло быть о «смешении лиц всех кругов и состояний». Рождение и успех «массового» искусства — симптомы появления нового потребителя, о запросах которого раньше никто не думал, — массы горожан, оторвавшихся от патриархальной культуры, грамотных, но не желающих ломать головы над какими-либо проблемами, кроме одной — проблемы собственного благополучия. В саду Народного дома и в его филиале — Таврическом саду бывало в летние дни по 10 тыс. посетителей. Третьим по популярности был Зоологический сад: до 6 тыс. человек в день (Никитин Н. 100). Здесь на открытой эстраде шли «волшебные феерии», водевили, фарсы, иногда оперетты (Петровская И. 1994. 351, 352). «Войдя туда, вы сразу попадаете в кашу мелких студентов и дешевых кокоток. <…> Завсегдатаи — разные громкие немцы, веселые приказчики и тихие аптекарские мальчики, держащие себя крайне фармацевтически» (СР. 55). Это сказано на жаргоне завсегдатаев артистических кабаре: «фармацевт» — прозвище тогдашних «новых русских». «Аптекарские мальчики» — мелкие буржуйчики, которые хотят стать «фармацевтами», но вынуждены довольствоваться затеями Зоосада, потому что им еще недоступен «Аквариум», где, в вызывающем соседстве с заведениями Попечительства о народной трезвости, гуляла более крупная рыба — настоящие «фармацевты». В «Аквариуме» (владелец — купец и антрепренер Г. А. Александров) действительно имелся аквариум, где обитали рыбы и морские животные — ими можно было и любоваться, и лакомиться. «Аквариум» — это ресторан, увеселительный сад с оранжереями, павильонами и первым в России искусственным ледяным катком, малый летний театр и театр на 2500 мест (ныне киностудия). На сценах — зарубежные опереточные труппы, исполнители романсов, цыганские хоры, шансонетки (Петровская И. 1994. 349). В летние месяцы «Аквариум» посещало 1500 человек в день. 6 мая 1896 г. в «Аквариуме» состоялся первый в России киносеанс: показали «Прибытие поезда» и еще несколько лент (лишь полугодом раньше в парижском «Grand cafe» «Прибытием поезда» открылась первая кинопрограмма бр. Люмьеров). Сначала «синематограф», несмотря на успех у публики, не мог распространиться широко из-за трудностей приобретения проекторов и фильмов. Но в 1907 г. возникла система проката. Стоило теперь какому-нибудь магазину или трактиру прогореть, как появлялся арендатор с аппаратом и лентами, проламывал стены и завешивал окна черным коленкором. За год на одном Невском пр. открылось несколько десятков «иллюзионов». К войне их осталось тут лишь 18 (из них 13 — между Фонтанкой и Знаменской пл.), а центром «синема» стал Большой пр. П. С.: «Кино! На каждом шагу небольшие… человек на 80–100» (Милашевский В. 9). «Во всех первых кинематографических впечатлениях ясно проходит мотив пленительной общедоступности нового зрелища. Увлекает отсутствие в зале всяких барьеров: социальной иерархии, эстетической подготовленности. Рухнули преграды, отменены условности, забыт чопорный этикет, и все слились в едином „запретном“ наслаждении, в общем, одинаковом у всех, сопереживании драме на экране. <…> Общая эмоция владела великим мыслителем и курсисткой. Потребителем кинематографа оказывался каждый: и изысканный поэт, и кухарка, и барыня, и поклонник старинной архитектуры» (Зоркая Н. 81, 82). «Синема» оказался наследником балагана — он смог снова смешать в общей толпе людей всех кругов и состояний. Пожарные команды и полиция В 1890–1910-х гг. столица преуспела в борьбе с пожарами. Запрет на строительство деревянных сооружений в центральных частях города привел к уменьшению числа пожаров; разделение соседних домов брандмауэрами ограничивало площадь распространения огня; водопровод облегчал тушение огня. Городская пожарная команда была в ведении полицейского управления. Комплектовалась она по вольному найму. К 1914 г. в 20 пожарных частях служило 1090 человек. Столичные пожарные отличались высокой выучкой и мастерством. На их вооружении находилось 20 паровых насосов, 58 повозок, около 400 лошадей. В 1904 г. в Петербурге появился первый отечественный пожарный автомобиль (завода «Фрезе и К°»), который мог везти 8 пожарных и снаряжение со скоростью 25 верст в час. С 1906 г. работали курсы подготовки брандмейстеров (Обводный кан., 151), при них действовала образцовая пожарная часть. В пригородах действовали добровольные пожарные формирования, которые в 1893 г. были объединены в Пригородное пожарное общество (СППЛ. 500). В полицейском управлении было 4 отделения, ведавших 12 частями города: Адмиралтейской, Казанской, Спасской, Коломенской, Нарвской, Московской, Александро-Невской, Рождественской, Литейной, Васильевской, Петербургской и Выборгской. Во главе части стоял полицмейстер. Часть делилась на участки (в Адмиралтейской части их было два, в Казанской три и т. д.). Всего было 38 городских и 4 загородных участка. Каждым ведал участковый пристав. Персонал участка состоял кроме полицейских из чиновников, которые ведали паспортами, канцелярией и обслуживали полицейский телеграф. Участки делились на околотки, их было в городе 93. За порядок в околотке отвечал околоточный надзиратель (обычно средних лет или пожилой унтер-офицер), ему подчинялись квартальные. Постовую службу несли городовые из отслуживших низших армейских чинов (Ривош Я. 248). Специализированными подразделениями полиции, подчинявшимися непосредственно градоначальнику, была сыскная полиция, речная полиция, конно-полицейская стража, полицейский резерв, портовая полиция, фабричная полиция, тюремная часть (СППЛ. 503). Сыскная полиция занималась уголовным розыском. Впервые в России она была учреждена в Петербурге в 1873 г. в связи с ростом преступности, вызванным бурным ростом города. Осведомителями были дворники, швейцары, ночные сторожа, половые, разносчики, уголовники. В каждой полицейской части имелась сыскная комната. Речная полиция охраняла мосты и набережные и несла спасательную службу. Ее личный состав комплектовался из матросов и морских унтер-офицеров сверхсрочной службы и из бывших морских офицеров, по тем или иным причинам оставивших службу на флоте (Ривош Я. 250–257). Разветвленность полицейского аппарата может создать впечатление, что Петербург буквально кишел полицейскими. На деле это было не так. Полиция содержалась на средства из городских бюджетов. Долей расходов по этой статье бюджета Петербург не отличался от Москвы или Саратова. Также и по размеру территории, приходившейся в среднем на одного блюстителя порядка, Петербург был привычен провинциальному глазу. Но поскольку населена столица была, по среднерусским меркам, неплотно, то на душу населения полицейских здесь было чуть больше, чем в других русских городах, и заметно больше, нежели в Киеве или Варшаве. Абсолютной же численностью штат столичной полиции — 5300 человек — был значительно больше, чем в каком-либо другом городе империи. Однако не надо забывать, что в обязанности полиции входила не только охрана порядка, но и попечение о благоустройстве города (образцовом для всей империи), и надзор за соблюдением правил застройки (в условиях строительной лихорадки он требовал огромных усилий), и вообще контроль за исполнением всех обязательных для петербуржцев постановлений, принятых градоначальником и думой, — от мощности двигателей на предприятиях до качества мяса в лавках (Круглов Г. 181). Городом полицейских Петербург мог казаться только в чрезвычайных ситуациях, когда в ключевых точках градоначальник действительно концентрировал крупные силы. Эти-то ситуации и поражают наше либеральное воображение, когда мы, например, пытаемся представить Петербург 9 января 1905 г. (Степанов А. 1993. 298). На особом положении были дворцовая полиция и жандармерия. Первая несла внешнюю охрану царских резиденций. Рядовые и унтер-офицеры набирались из числа бывших солдат гвардии, отличавшихся высоким ростом и бравой выправкой. Дворцовая полиция подчинялась министру двора. Во главе ее стоял обер-полицмейстер (из свитских генералов). Охрану того или иного дворца возглавлял дворцовый полицмейстер — обычно флигель-адъютант в чине полковника, оперативно подчинявшийся коменданту дворца, командовавшему как военной, так и полицейской охраной дворца. Военную охрану поочередно несли наряды от гвардейских полков, а личный состав полицейской охраны был постоянным. Жандармерия — политическая полиция. Она была организационно оформлена в две ветви: «охранка» осуществляла политический сыск, а жандармское управление проводило аресты политически неблагонадежных, вело дознание по их делам, передавало дела в прокуратуру, следило за их судебным рассмотрением, конвоировало осужденных в места ссылки, каторги, заключения. Жандармский офицер — офицер гвардейской кавалерии, вынужденный уйти из полка из-за отсутствия средств для продолжения дорогостоящей службы или из-за какой-нибудь неблаговидной истории. Формально он числился на военной службе, но обратного пути в полк ему не было. В глазах общества, к которому он принадлежал по рождению или по прежней службе, он становился отверженным. Жандармов презирали в первую очередь те люди (аристократия, чиновная знать, гвардия), чье социальное и имущественное превосходство в огромной степени зависело от успеха борьбы жандармов с политическими преступниками (Ривош Я. 258). Низшие чины жандармерии набирались из прошедших сверхсрочную службу в кавалерии, почти все они были офицерами или унтер-офицерами в возрасте 30–50 лет. Они несли караульную службу на вокзалах, пристанях, производили аресты, конвоировали «политических», стояли в карауле у скамьи подсудимых на процессах над террористами и революционерами. Количество мест в тюрьмах во всех крупных городах империи, кроме Лодзи, было больше, чем в Петербурге. В Москве их было на 1000 жителей в полтора, а в Саратове в четыре раза больше, нежели в столице (Степанов А. 1993. 301). Об условиях содержания политзаключенных в одной из самых страшных тюрем России — в Трубецком бастионе Петропавловской крепости (с июня 1906 г. по март 1917 г. здесь были казнены 17 человек) можно судить по письмам узников: «После вечного, непрекращающегося шума и гама харьковской тюрьмы здесь, право, можно блаженствовать. Тишина полная. Занимайся целый день. Спи напролет всю ночь»; «В первый раз встречаем начальника, который соединяет в себе принципы законной справедливости со справедливостью и доброжелательным отношением к заключенным»; «Кормят здесь превосходно» (Дубова Н. 28, 29). Школа, гимназия, университет До 80 % расходов Петербурга по статье бюджета «народное образование» шло на городские начальные школы. Более половины их учащихся были из крестьян, остальные — дети мещан и нижних чинов (более состоятельные родители отдавали детей в частные школы). С 1903 г. обучение в городских начальных школах стало бесплатным. К 1907 г. их было 322; в них числилось 35 тыс. детей — поровну мальчиков и девочек. В 2-летних школах учили закону Божию, церковному пению, чтению, письму, началам арифметики; в 3-летних добавляли историю церкви и отечества. На средства города существовали классы и школы для отсталых, 27 воскресных школ, 14 читален. Даже частные школы получали стипендии и пособия из городского бюджета. Всех начальных школ — городских, частных и казенных (школы грамоты и церковно-приходские в ведомстве Синода) — было к 1911 г. 1068. Плоды начального образования в Петербурге впечатляющи: на рубеже столетий грамотных было лишь 59 %, но среди детей 8–12 лет — 83 %. Средние общеобразовательные учебные заведения — гимназии, реальные и коммерческие училища. К 1901 г. в них числилось 43 тыс. учащихся. Желающих поступить в казенные заведения, где плата была сравнительно невелика, было гораздо больше, чем мест. Напряжение отчасти снималось благодаря появлению все новых общественных и частных учебных заведений. Гимназий было в несколько раз больше, чем реальных училищ. Из 12 казенных гимназий одна (№ 3) была в полном смысле слова «классической» (с обязательным изучением двух древних языков — греческого и латинского), в остальных обязательна была только латынь. Гимназия — это 7-классное учебное заведение (7-й класс — двухгодичный). Языкам, литературе, истории, географии отводилось 82 % учебного времени; на физику, математику, естествознание оставалось 18 %. При гимназиях имелись 4 и 6-классные прогимназии. Для поступления в них надо было иметь представление о Библии, бегло читать, уметь складывать и вычитать. В прогимназии преподавали закон Божий и русский язык, начала истории, географии, природоведения, учили рисованию, чистописанию, французскому или немецкому языкам. У мальчиков дополнительным предметом была латынь, у девочек рукоделие. Из прогимназии поступали в следующий класс гимназии без экзаменов. Окончившие гимназию с медалью принимались в университет вне конкурса, остальные выпускники — по конкурсу аттестатов (экзамены при поступлении в университет держали только лица, не имевшие аттестата зрелости, выдававшегося выпускникам гимназии). В 1898 г. среди гимназистов 56 % были детьми дворян и чиновников. Состав реалистов был демократичнее. Учились они 7 лет. В реальных училищах уделяли много внимания математике и физике, древние языки не преподавали, но были обязательны два новых. Имелись лаборатории и мастерские; к преподаванию допускались выпускники Технологического, Горного институтов. В 5-м классе реалист выбирал основное или коммерческое отделение, в 7-м учились лишь те, кто хотел поступить на физико-математический факультет университета, в медицинский, технический или сельскохозяйственный вуз. Коммерческие училища давали общее (как реальные училища) и коммерческое образование. Специальные предметы (бухгалтерия, товароведение, технология, коммерческие арифметика, корреспонденция и география) занимали 11 % учебного времени. В 1894–1906 гг. этими училищами ведало Министерство финансов, затем Министерство торговли и промышленности. Глава последнего С. Ю. Витте поощрял развитие коммерческих училищ. Он дал право на их создание и содержание купечеству, промышленникам. Училищам была предоставлена некоторая свобода в преподавании общеобразовательных предметов, признавались права родительских комитетов на участие в учебной и воспитательной жизни, допускалось совместное обучение мальчиков и девочек. Поступали в училища с 10 лет и учились 7–8 лет. Коммерческие училища стали лучшими общеобразовательными школами: в них применялись методы преподавания, развивавшие самостоятельное мышление, пробуждавшие интерес к науке, к овладению не только теорией, но и практическими навыками; работали лучшие петербургские педагоги; хорошо оборудовались кабинеты физики, естествознания; много внимания уделялось иностранным языкам (СППЛ. 278). Об уровне обучения в них можно судить по Выборгскому коммерческому училищу: 30 % выпускников стали научными работниками, 31 % — инженерами, 16 % — врачами и педагогами, 14 % — деятелями литературы, искусства, культуры, 9 % — служащими; из 450 выпускников 24 стали кандидатами, 27 — докторами наук (Лейкина-Свирская В. 18, 38, 108). В 1911 г. всех гимназий, реальных и коммерческих училищ было в Петербурге 152 (ПЖ. 302). Обучение в казенном реальном училище или в гимназии стоило 50–100 руб. в год, в частных — 100–250 руб. (с пансионом не менее 350 руб.), в коммерческих — от 50–200 руб. в младших классах до 90–300 руб. в старших. Большинство родителей было не в состоянии платить такие деньги (годовой заработок петербургского фабричного рабочего составлял в среднем 355 руб.). Но молодые люди, начав трудовую жизнь, могли пополнять образование в казенных вечерних школах или на курсах — частных или общественных. Хороший пример — общеобразовательные курсы А. С. Черняева, принимавшие лиц обоего пола не моложе 15 лет без каких-либо ограничений. Учились 4 года. Неимущие и хорошо успевающие освобождались от платы. Лекции для продвинутых учеников читались по университетской программе. Среди преподавателей были лучшие ученые и педагоги столицы. Число слушателей в 1908 г. составило 1000 человек. Посещение занятий было свободным, но знания оценивались строго. Сдав жесткий экзамен на аттестат зрелости (включая дополнительные знания, требуемые от экстернов, не получивших классического образования), выпускник, обзаведясь «свидетельством о благонадежности», мог стать студентом университета (Сорокин П. 46, 52, 273). К 1911 г. на попечении городского управления, частных лиц и обществ было 220 технических, профессиональных школ и курсов (ПЖ. 225, 226, 239, 240, 302). По числу вузов Петербург держал 1-е место в России: в 1909 г. их было под 30, к 1911–38, не считая 21 частного (ПЖ. 302). Столичный университет был вторым по числу студентов после Московского. В нем не было медицинского факультета. Взамен существовали Военно-медицинская академия, Институт экспериментальной медицины, Клинический институт вел. кн. Елены Павловны, акушерские курсы для врачей при Клиническом институте, курсы Глазной лечебницы. В 1908 г. В. М. Бехтерев открыл на частные пожертвования Психоневрологический институт, куда принимали по 300 человек в год. Читали лекции по анатомии, физиологии, химии, физике, биологии, психологии, философии, логике, социологии, истории, литературе, искусству, математике, праву. При институте Бехтерева существовал Педологический институт. Юриспруденцию изучали помимо университета в Александровском лицее и Училище правоведения. Коммерцию — в Институте высших коммерческих знаний. Технические дисциплины — в Горном институте имп. Екатерины II, Институте гражданских инженеров имп. Николая I, Институте инженеров путей сообщения имп. Александра I, Политехническом институте, Технологическом институте имп. Николая I, Электротехническом институте имп. Александра III. Сельское хозяйство и лесоводство — в Институте сельского хозяйства и лесоводства и в Лесном институте. Высшими духовными учебными заведениями были Духовная и Римско-католическая академии. Преподавателей русского и древних языков для средних учебных заведений готовил Историко-филологический институт — закрытое заведение, куда принимали на казенное содержание выпускников гимназий и духовной семинарии. Восточные языки изучались на единственном в России университетском факультете этого профиля. Окончившие по I разряду арабско-турецко-персидское отделение факультета восточных языков могли совершенствоваться на Учебном отделении восточных языков, где занимались и прошедшие по конкурсному экзамену офицеры. Существовала Практическая восточная академия при Обществе востоковедения. Имелся в столице и Археологический институт. Высшее музыкальное образование давала Консерватория; художников, скульпторов, архитекторов готовило Высшее художественное училище при Академии художеств; специалистов по прикладному искусству — Центральное училище технического рисования бар. А. Л. Штиглица. В последнем почти половину составляли студентки. Экзамены проходили в июле. «Лучшие поступят туда, где конкурс был больше, полные тупицы вернутся в провинцию, а твердые троечники и способные бездельники пополнят демократическую массу студентов Технологического и Лесного института, где конкурс всегда невелик» (Лурье Л. 174). Перед счастливцами (кроме студентов Электротехнического института) вставал вопрос о плате за учение. Учиться на путейца не было разорительно — 10 руб. в год. Сносно и в Горном институте — 60 руб. В университете приходилось платить 100 руб. Дорого было учиться в привилегированных заведениях (в Училище правоведения — 600–800 руб.). Но даже если плата не была обременительна, денег студенту не хватало, потому что слишком много было в столице соблазнов. Книги, журналы, газеты, музеи, спектакли, концерты, выставки, вечеринки за бутылочкой пива или рюмочкой водки, пикники и более пикантные развлечения — все требовало денег. Существовали благотворительные общества, стипендии. Но многим студентам приходилось зарабатывать своим трудом, тратя на работу драгоценное время. Существовал один радикальный выход: учиться так, чтобы получать стипендию. Университетской стипендии хватало не только на оплату обучения, но и на житейские расходы. О военных В Петербурге постоянно находилось свыше 30 тыс. солдат и около 5 тыс. офицеров, что соответствовало предписаниям о численности войск, необходимых для обороны крепости диаметром 12 верст, т. е. равновеликой Петербургу (Брокгауз. II. XII. стб. 682). Следовательно, столица была перенасыщена воинскими частями: ведь в мирное время не было необходимости держать в городе гарнизон такой же величины, как во время осады. На посту главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа вел. кн. Владимира Александровича, умершего в 1909 г., сменил вел. кн. Николай Николаевич. В гвардейский корпус входили полки л.-гв. Преображенский, Семеновский, Измайловский, Егерский, Московский, Гренадерский, Павловский, Финляндский, Резервный пехотный, Казачий императорский, Атаманский наследника-цесаревича, Сводно-казачий, 1-я и 2-я артиллерийские бригады, Саперный батальон, Кавалергардский полк имп. Марии Федоровны, полк Конной гвардии, Стрелковая и Конно-артиллерийская бригады, Стрелковый артиллерийский дивизион, полевой Жандармский эскадрон и части гвардии, дислоцированные при загородных царских резиденциях: в Царском Селе полки л.-гв. Гусарский, 1-й Кирасирский императорский («желтые кирасиры»), 1-й Стрелковый императорский, 4-й Стрелковый императорской фамилии, 1-й и 2-й императорские Стрелковые батальоны; в Петергофе полки л.-гв. Уланский имп. Александры Федоровны и Конно-гренадерский; в Старом Петергофе л.-гв. Драгунский полк; в Гатчине л.-гв. Кирасирский полк имп. Марии Федоровны («синие кирасиры»); в Стрельне л.-гв. Стрелковый артиллерийский батальон и 2-й артиллерийский парк; в Павловске часть л.-гв. Сводно-казачьего полка, часть Конно-артиллерийской бригады и запасная пешая батарея. Армейские части в столице — 145-й Новочеркасский имп. Александра III и 198-й Александро-Невский резервный пехотные полки, 18-й саперный и 1-й железнодорожный батальоны, 1-й полевой инженерный парк и части крепостной артиллерии. Большинство армейских частей стояло в окрестностях (РВПВО). Воспитательными военно-учебными заведениями были кадетские корпуса: 1-й, 2-й вел. кн. Михаила Николаевича, имп. Александра II, Николаевский и общие классы Пажеского корпуса. В течение 7 лет они давали мальчикам общее среднее образование и готовили их к поступлению в военные училища. Офицеров выпускали заведения 4 типов. Первый — юнкерское пехотное училище, подготавливавшее за 2 года подпрапорщиков. Второй тип — закрытые училища, приравнивавшиеся к вузам: пехотные Павловское и Владимирское, кавалерийское Николаевское, артиллерийские Михайловское и Константиновское, инженерное Николаевское, Военно-топографическое, Интендантские курсы и специальные классы Пажеского корпуса. Их учащиеся (юнкера) считались состоящими на действительной военной службе. В артиллерийском и инженерном училищах курс длился 3 года, в остальных 2. Третий тип — академии: Николаевская Генерального штаба, Михайловская артиллерийская, Николаевская инженерная, Александровская военно-юридическая. В них принимали по экзамену офицеров, прослуживших несколько лет в строю. В первых трех академиях курс был 2-годичный. Выпускников откомандировывали обратно в их части, а лучших оставляли на годичный дополнительный курс и затем назначали к службе по специальности. В Военно-юридической академии курс длился 3 года. Военно-медицинская академия готовила врачей для военного и морского ведомств. Слушатели (в 1912 г. — 362 стипендиата военного ведомства и 50 морского) считались на действительной службе. По уровню преподавательского состава, разнообразию клиник, богатству учебно-вспомогательных пособий это был один из лучших медицинских вузов в мире. Четвертый тип — специализированные школы переподготовки офицеров: Кавалерийская, Артиллерийская, Воздухоплавательная, Гимнастическо-фехтовальная; и унтер-офицеров: Электротехническая, Техническая артиллерийская, Пиротехническая, Военно-фельдшерская, Кондукторская (кондукторы — это сверхсрочнослужащие чертежники и художники в армии). Флот был привилегированной частью вооруженных сил: ассигнований на него шло гораздо больше, чем на армию. В столице квартировали Гвардейский и 2-й Балтийский экипажи, чей состав служил для пополнения корабельных команд; в экипаже числилось около 1000 нижних чинов (во времена парусного флота таково было число матросов стопушечного 3-палубного корабля). Морских офицеров выпускали Морской кадетский корпус цес. Алексея и Морское инженерное училище имп. Николая I (в Кронштадте). Морской кадетский корпус был закрытым учебным заведением с шестью классами: тремя общеобразовательными и тремя специальными («гардемаринскими»), соответствовавшими юнкерскому училищу. Гардемарины — учащиеся 6-го класса, проходившие годичную практику на корабле, после которой их производили в офицеры (мичманы). Высшее образование давала Николаевская морская академия. В нее по экзамену принимались офицеры флота. Она имела 4 отделения: гидрографическое, механическое, кораблестроительное и военно-морское. Первые три имели 2-годичный курс, последнее — одногодичный. Военная жизнь с ее распорядком, обычаями, этикетом, символикой «наполняла и оформляла собой почти все проявления городской жизни, определяла градостроительную и планировочную структуру города, его колорит, жизненный ритм площадей и улиц. Архитектура казарм и полковых соборов, манежи и караульные будки, перемещение войск в городе, их внешний вид — все это накладывало на облик города характерный и яркий отпечаток. Военный элемент в жизни города проявлялся в топонимике и городском фольклоре, в укладе жизни и во многих чертах партикулярного быта» (Вилинбахов Г. 16). Офицеры гвардии и флота в блестящих мундирах, в орденах и медалях красовались на концертах, банкетах, балах, балетах, приемах, гуляньях и катаниях, придавая столичным развлечениям и торжествам оперную пышность. Офицерство относилось к штатским с высокомерием, укорененным в давних традициях российской сословной иерархии. Военная служба давала ощутимое преимущество в получении дворянства, отраженное в «Табели о рангах» (см. таблицу). 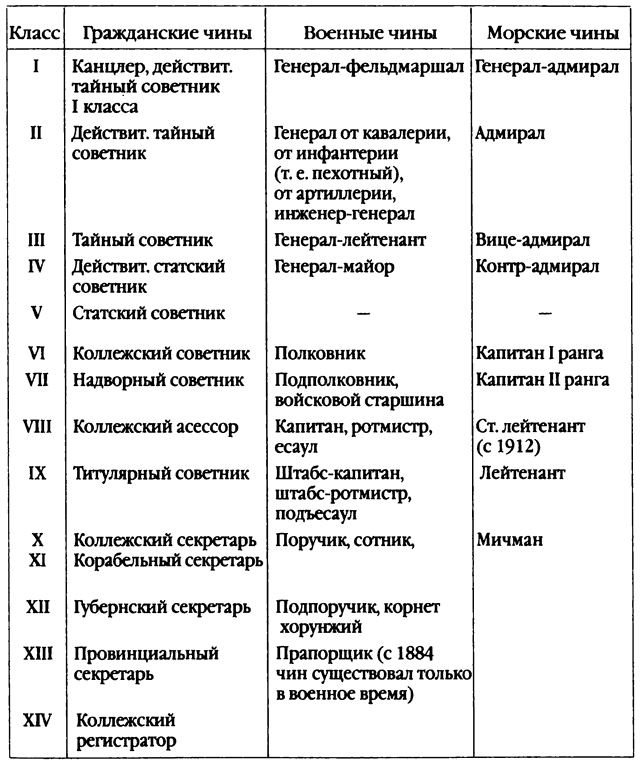 Потомственное дворянство на гражданской службе давал IV класс, а на военной — VI класс. Личное (не наследуемое потомками) дворянство на гражданской службе давал IX класс, а на военной службе в мирное время — XII класс, во время войны — XIII класс. Для офицеров обычно проходили безнаказанно случаи диких расправ над штатскими, смакуемые офицерами в «Поединке» А. И. Куприна: «В каком-то большом городе — не то в Москве, не то в Петербурге — офицер застрелил, „как собаку“, штатского, который в ресторане сделал ему замечание, что порядочные люди к незнакомым дамам не пристают». Когда подпоручик Ромашов осмеливается возразить, что разумнее потребовать удовлетворения на поединке, чем «нападать с шашкой» на безоружного порядочного человека, дворянина, — товарищи по службе поднимают его на смех. «Я совсем не зря грозился покончить с собой, если бы мне не удалось избежать воинской службы… среди нашего довольно обширного круга знакомой молодежи и вовсе не был исключением. В частности, все мои ближайшие друзья питали одинаковые с моими чувства, и всем им удавалось так или иначе избежать воинской повинности». Моральное основание для уклонения от службы молодежь находила в проповеди Толстого о непротивлении злу насилием (Бенуа А. I. 702, 703). Самым великолепным столичным ритуалом был парад в конце апреля — начале мая на Марсовом поле, которым завершался зимний светский сезон: после парада гвардия отправлялась в Красное Село. Генерал А. А. Игнатьев вспоминал: «Две алые полоски двух казачьих сотен конвоя открывали прохождение войск… За конвоем, печатая шаг, проходил батальон Павловского военного училища, потом сводный батальон, первой ротой которого шла пажеская рота, вызывавшая своими касками воспоминание о давно забытой эпохе. Затем… на середину поля выходил оркестр преображенцев, и начиналось прохождение гвардии, шедшей в ротных, так называемых александровских колоннах, сохранившихся от наполеоновских времен. Красноватый оттенок мундиров Преображенского полка сменялся синеватым оттенком Семеновского, белыми кантами Измайловского и зелеными — егерей. Однообразие форм нарушал только Павловский полк, проходивший в конусообразных касках эпохи Фридриха Прусского и по традиции, заслуженной в боях, с ружьями наперевес. В артиллерии, сразу за пехотой, бросались в глаза образцовые запряжки из рослых откормленных коней, подобранных по мастям с чисто русским вкусом: первые батареи на рыжих конях, вторые — на гнедых, третьи — на вороных… Серебристые линии кавалергардов на гнедых конях сменялись золотистыми линиями конной гвардии на могучих вороных, серебристыми линиями кирасир на краковых конях и вновь золотистыми линиями кирасир на рыжих. Вслед за ними появлялись красные линии донских чубатых лейб-казаков и голубые мундиры атаманцев, пролетавших обыкновенно налетом. Во главе второй дивизии проходили мрачные конногренадеры, в касках с гардами из черного конского волоса, а за ними на светло-рыжих конях — легкие синеватые и красноватые линии улан. Над ними реяли цветные флюгера на длинных бамбуковых пиках, отобранных ими в турецкую кампанию. Красно-серебристое пятно гвардейских драгун на гнедых конях было предвестником самого эффектного момента парада — прохождения царскосельских гусар. По сигналу „галоп“ на тебя летела линия красных доломанов; едва успевала, однако, эта линия пронестись, как превращалась в белую — от накинутых на плечи белых ментиков. Постепенно кавалерийские полки выстраивались в резервные колонны, занимая всю длину Марсова поля, противоположную Летнему саду. Перед этой конной массой выезжал на середину поля сам генерал-инспектор кавалерии, Николай Николаевич. Он высоко поднимал шашку в воздух. Все на мгновение стихало. Мы, с поднятыми палашами, не спускали глаз с этой шашки. Команды не было; шашка опускалась, и по этому знаку земля начинала дрожать под копытами пятитысячной массы, мчавшейся к Летнему саду. Эта лавина останавливалась в десяти шагах от царя» (Вилинбахов Г. 16–20). Казармы полков, участвовавших в этом апофеозе военного великолепия, отнимали у города 28 га ценнейшей земли — территорию, равновеликую пяти Дворцовым площадям. К началу века они не удовлетворяли ни строительным, ни эксплуатационным нормам и с каждым годом требовали все больших расходов на ремонт. У военных не хватало средств на поддержание уличного благоустройства в окрестностях казарм, что вызывало справедливые жалобы обывателей. Да и сами дислоцированные в центре столицы войска были крайне стеснены как недостатком места для обучения молодых солдат, так и отдаленностью стрельбищ (Енакиев Ф. 68, 69). Пока войска были верны царю, концентрация их близ трона поддерживала уверенность в его незыблемости. Но эта стратегия оказалась недальновидной. Когда солдаты перестали повиноваться командирам, избыточность столичного гарнизона обернулась роковым обстоятельством для царского режима, а затем и для Временного правительства. Расположенные в городе казармы стали очагами революционной пропаганды. Штыки, защищавшие власть от народа, обратились против самой власти. Без этих штыков власть не перешла бы к большевикам. Кронштадт Кронштадт был наряду с Петербургом и Николаевом одним из трех в России военных портов 1-го разряда. В административном отношении он являлся особым военным губернаторством в пределах Санкт-Петербургской губернии. Город занимал примерно 1200 x 800 саженей на восточной половине острова Котлин и делился на Адмиралтейскую и Комендантскую части. Адмиралтейская, открытая к гаваням на южной стороне острова (с запада на восток — Купеческой, Средней и Лесной), соединяла функции порта, верфи, военно-административного и учебного центра Балтийского флота. В ней почти не было жилья — только казенные постройки и гидротехнические сооружения: причалы, доки, склады, таможня, лесная биржа, казначейство, Николаевское инженерное училище, морской манеж, дом и канцелярия главного командира Кронштадтского порта и военного губернатора, мужская и женская гимназии, Петровский парк с памятником Петру I. К 1913 г. в Адмиралтейской части воздвигли знаменитый Морской собор и поставили невдалеке от него памятник С. О. Макарову. Комендантская часть — это собственно город: благоустроенные улицы, жилые кварталы и казармы, церкви, здания Городской думы и Общества взаимного кредита, торговые заведения, Морское собрание, библиотека, театр. Население города в 1902 г. 43 тыс. человек, а в 1914 г. — 65 тыс. Половина были военными моряками, остальные обслуживали нужды морского ведомства и флота. На 100 мужчин приходилось 83 женщины (Брокгауз. II. XXIII. Ст. 449). Отсюда своеобразие быта, отразившееся, в частности, в особенностях языка, тонко уловленных Д. А. Засосовым и В. И. Пызиным: ни в одной главе книги нет столько жаргонизмов, как в главе о Кронштадте. Этимологию некоторых их них — «пасач», «козяк» — нам не удалось выяснить даже в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля — отставного кронштадтского морского офицера. В Кронштадте было несколько учебных заведений морского ведомства: кроме Николаевского инженерного училища — Минные офицерские классы, Машинная школа Балтийского флота, школы водолазов и юнг. Существовали астрономическая и компасная обсерватории (там же. Ст. 450). Еще при Петре I был установлен футшток — устройство для определения фактического уровня поверхности моря относительно средней его величины, дающее нулевой отсчет для всей российской геодезической системы. Обширный морской госпиталь был одним из передовых центров европейской практической и научной медицины. В 1896 г., спустя лишь год после опубликования Рентгеном его открытия, преподаватель Минных офицерских классов А. С. Попов сконструировал для госпиталя рентгеновский аппарат, с помощью которого были получены первые в России снимки внутренних органов человека (Соколов В. 318, 319). Военная гавань выступала на юго-восток — по направлению к Петербургу. От Толбухина маяка на восток до этой гавани простирался Малый рейд; на запад на 13 верст — Большой рейд. К созданию системы фортов на Котлине и вокруг него приступили при Николае I. В 1856–1871 гг. их строительство продолжили по проектам графа Тотлебена. С 1896 г. форты одевали в бетон и вооружали дальнобойной артиллерией (Соколов В. 319). Реконструкцию и перевооружение фортов завершили к началу Первой мировой войны. Окрестности Петербурга и дачная жизнь Летняя жизнь за городом стала привычной для петербуржцев с конца 1830-х гг. Самым престижным дачным местом был Каменный остров; немцы предпочитали Крестовский; дешевые дачи Новой и Старой Деревни и домишки на Карповке привлекали холостых чиновников; в Лесном и Парголове отдыхала интеллигенция; в Заманиловке — скромные чиновники с семьями (Деотто П. 362–364). Ареал дачных мест значительно расширился с проведением железных дорог: в 1837 г. — Царскосельской, в 1851 г. — Николаевской, в 50-х гг. — Варшавской, в 1857 г. — на Петергоф (в 1864 г. ее довели до Ораниенбаума), в 1859 г. — на Красное Село, в 1870 г. — Финляндской, в 1874 г. — Балтийской через Гатчину, в 1876 г. — на Сестрорецк через Териоки и в 1894 г. — через Лахту, в начале 1900-х гг. — Витебской (вскоре от нее отвели ветку на Поселок). Респектабельная публика тянулась поближе к императорским резиденциям, где царили порядок и чистота, — к Петергофу, Стрельне, Павловску. Просвещенное чиновничество, литераторы, инженеры, модные врачи, адвокаты и художественная интеллигенция, стоявшая в оппозиции к официозной культуре, предпочитали ближнюю Финляндию и Эстляндию: это давало иллюзию отдыха в Европе, позволяло наведываться в город и не вводило в катастрофические траты (Лихачев Д. 76; Лурье Л. 173, 174). Люди состоятельные, но без апломба, отдыхали в таких приятных местах, как Разлив, Лесной, Шувалово, Островки, Вырица, Сиверская, Красное Село, Тайцы, Мариенбург, Мартышкино. Им было по средствам снимать дачу, сохраняя за собой квартиру в городе. Архитектура их летних жилищ — романтичная, легкомысленно-нарядная, прозрачная, приветливая — не была похожа ни на городскую, ни на дворцово-парковую. Большинство же петербуржцев — «интеллигентный пролетариат», мелкие чиновники, конторщики, офицерские вдовы, народные учителя — удовлетворялись грязными крестьянскими избами или неказистыми «карточными домиками», которые строились владельцами, заботившимися лишь о прибыли, всюду, куда только можно было добраться железной дорогой; некоторые дачники устраивались в сараях и хлевах (Лурье Л. 174; Деотто П. 359, 368). Если представить себе преследовавшие бедных дачников запахи навоза и кухни, испарения болот, пыль проселков и деревенских улочек, сквозняки в горницах, ежедневные поездки «дачных мужей» на службу и обратно в битком набитых душных вагонах, то жизнь их не назовешь комфортабельной и здоровой. Но оставаться на лето в Петербурге им было бы хуже. Во-первых, многие были готовы голодать зимой, лишь бы летом показывать, что они «не простые какие-нибудь люди, а живут на даче». Во-вторых, сезонная плата за дачу была ниже, чем за квартиру. Это вынуждало жить за городом как можно дольше — чуть ли не до октября — и затем устремляться в город искать зимние квартиры: начиналась «несносная процедура странствования по улицам, лазания по четвертым и пятым этажам, бесконечные и однообразные беседы с дворниками» (Деотто П. 365, 368). В-третьих, в летнем Петербурге и даром никто не хотел бы жить. Воздух был так задымлен, что в 1914 г. летчик, покруживший над городом, рассказывал: «Петрограда вы не видите. Там, где он должен быть, большое темно-серое, почти черное пятно» (цит. по ПРП. 267). Шум и давка на улицах делались невыносимыми. По набережным было не пройти из-за причалов со снующими туда-сюда грузчиками. Город превращался в гигантскую строительную площадку, на которой кипела работа армии пришлых каменщиков, плотников, маляров, кровельщиков. Ремонт домов; земляные работы, отравлявшие воздух миазмами почвы; улицы, перегороженные рогатками из-за починки мостовых. «Город изрыт весь точно во время осады; пешеходы, конки, экипажи — все лепится к одной стороне. <…> Трудно жить в Петербурге летом, в знойные дни, а еще хуже того в тихие вечера после них: дышать нечем; на улицах висит сизоватая пелена каких-то промозглых испарений, начинает пахнуть даже на лучших улицах гнилью, навозом» (Минцлов С. 25, 92). В-четвертых, людей гнал на лоно природы миф о противоестественности и бесчеловечности Петербурга, о гибельности жизни в нем. Укорененный в старых пророчествах о неминуемом конце города, порожденного волей Петра-«антихриста», он после пушкинского «Медного всадника» и «Петербургских повестей» Гоголя достиг апогея в творчестве Достоевского и символистов (Топоров В. 4–29). Дачная жизнь манила исцеляющим душу уходом на простор природы (воспринимаемой через призму литературы, музыки и живописи), к более простому (но без отказа от городских привычек) укладу жизни и более открытым (но не без соблюдения приличий) отношениям (Деотто П. 366–369). За 1908 г. пассажирооборот Варшавского и Балтийского вокзалов составил (в сумме) 8,4 млн. пассажиров, Финляндского — 4,8 млн., Николаевского — 2,5 млн., Царскосельского — 2,2 млн., Приморского — 2,1 млн. Билеты начинали продавать за полчаса-час до отправления поезда. Приобрести билет, зарегистрировать багаж, занять место в вагоне можно было поручить за 30–50 коп. носильщику, запомнив его номер и указав, в каком купе хотите ехать — для курящих, некурящих или для дам. На перрон пускали по предъявлении проездного билета или перронного (10 коп.). Вагоны 1-го класса были голубые, 2-го — желтые, 3-го — зеленые. Перед отправлением давали три звонка: первый за 15 мин., второй — за 5, сразу за третьим поезд трогался. Поезда делали по 30–40 км/час, подолгу стояли на станциях, опаздывали. Тарифная сетка на 1914 г.: 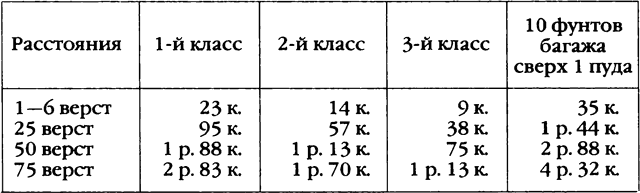 Провоз багажа весом до 1 пуда был свободный. Багаж можно было держать в камерах хранения 3 дня, платя 5 коп. в день за место (Baedeker K. 20–24). На станциях разносили еду. Официанты-татары в белых передниках, «начиная с первых же звуков пыхтения приближавшегося поезда, носились бегом, подобно санитарам скорой помощи. Еда… была прекрасной; сравнить еду в каком-нибудь ресторане с едой на железной дороге… значило выразить похвалу этому ресторану» (Стравинский И. 1971. 23). Чай можно было получить в любое время дня и ночи за 10 коп. Примечания:6 …самоеды… Старое название саамских племен; позднее перенесено на ненцев, энцев, нганасан и селькупов. 60 В «царские» дни… «Царскими» назывались дни празднования торжественных событий царствующей императорской фамилии — дни рождения, коронования, восшествия на престол и тезоименитства государя, его матери, августейшей супруги, наследника-цесаревича, а также дни рождения и тезоименитства прочих членов царской фамилии. Особенно пышно украсили центр города к 300-летию дома Романовых (22 февраля 1913 г.). …факелы на Исаакиевском соборе. Поддерживаемые ангелами светильники по углам собора. 601 Все даты в комментариях даны по старому стилю. 602 Полное библиографическое описание цитируемых источников помещено в конце комментариев в разделе «Список сокращений». 603 Помни о смерти (лат.). |
|
|||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Наверх |
||||
|
|
||||
