|
||||
8. Революция и власть закона (1789-1851) Кристофер ХарвиРазмышления о революциях В 1881 г. молодой оксфордский историк Арнолд Тойнби прочитал курс лекций о промышленной революции, которую он назвал таким же отдельным важным «периодом» британской истории, как, например, Война Алой и Белой розы. При этом легко может возникнуть вводящее в заблуждение представление об «эпохе двойной революции» – политической во Франции и индустриальной в Британии. Если штурм Бастилии был очевидным фактом, то индустриализация проходила постепенно, да и влияние ее сказывалось не сразу. Перемены можно было уловить только ретроспективно, и британцы никак не увязывали их с «революцией»; одно это слово бросало их в дрожь в отличие от европейцев, познавших революцию непосредственно, с близкого расстояния. Впервые эту метафору применил французский экономист Адольф Бланки, а затем и Карл Маркс, определяя общий характер европейского развития после 1848 г. Перед историком стоит нелегкая задача – решить, на чем сосредоточить свое внимание: на том, что является важным сейчас, или на том, что было существенным тогда. В первом случае нам придется иметь дело с изменениями в промышленной сфере, с новыми процессами, происходившими в ремесленных мастерских, во втором же – с тем, как медленными темпами теряла влияние доиндустриальная общественная элита, как живучесть религиозных верований испытывалась в условиях быстрого прогресса науки. Лишь где-то около 1830 г. люди наконец начали осознавать значительные и необратимые перемены в производстве, но потребовалось еще двадцать лет, чтобы даже средний класс убедился в их сугубой полезности. Допустимо ли ограничиться простым перечислением фактов, связанных с подобным поступательным развитием? Теоретически этого, пожалуй, было бы вполне достаточно. Однако эпоха «превосходства факта» была настолько переменчивой и навязчиво индивидуалистичной, что регистрация фактов и их оценка – это две совершенно разные вещи. До 1801 г. в Британии официально не проводилась перепись населения, и вопрос о том, увеличивается или уменьшается численность жителей страны, вызывал горячие споры. Со временем перепись стала важным инструментом социального анализа, предоставляя сведения относительно рода занятий и жилищных условий англичан, однако свое истинное значение перепись приобретала постепенно, проходя различные последовательные фазы, напоминая систематическое поэтапное картографирование страны, проведенное картографической службой в период между 1791г. и 60-ми годами XIX в. Укоренившаяся идеология невмешательства (laissez-faire) и недостаточное государственное финансирование негативно повлияли на усилия по сбору статистических данных, а потому меньше товаров и субъектов экономической деятельности подвергалось государственному регулированию или налогообложению. (А вот континентальные автократии, напротив, являлись ревностными собирателями данных о своих небольших индустриальных предприятиях.) Тем временем вокруг некоторых по сути довольно элементарных вопросов продолжают бушевать страсти, и прежде всего не утихают споры о том, была ли индустриализация благом для основной массы людей. В этом вопросе современные политики уходят от ответа. Современники Тойнби соглашались с Карлом Марксом: капиталистическая индустриализация к 1848 г. не сумела улучшить условия жизни рабочего класса. После 1917 г. Советская Россия, казалось бы, продемонстрировала всему миру приемлемую альтернативу – «плановую индустриализацию». Однако во что она обошлась в смысле человеческих жизней и свободы, скоро стало слишком очевидным, и либеральные экономисты, имея в виду в первую очередь «развивающиеся страны», вновь вернулись к идее индустриализации на основе функционирования свободного рынка. С его помощью британский капитализм, доказывали они, даже испытывая острую нужду в инвестиционных средствах, смог за сравнительно короткий срок увеличить общую сумму капиталовложений и поднять жизненный уровень населения. Результаты этих жарких дебатов были далеко не однозначными. Не в последнюю очередь они зависели от географического контекста участников, предполагающего, что экономическое развитие Британии напрямую – и далеко не всегда в благоприятном смысле – воздействовало на экономику Ирландии, Индии и южных штатов США. Помимо проблем со статистикой и контекстом существует и немаловажный вопрос, связанный с осознанием происходящего. В 20-х годах XIX столетия индустриализация как концепция только-только нарождалась. Что бы ни думала правящая элита об экономических доктринах, городские власти и землевладельцы по-прежнему главным считали стабильность, жили и мыслили доиндустриальными ценностями. Но к 1829 г. тенденция к индустриализации внезапно сделалась очевидной. Всего лишь через одиннадцать лет после публикации последнего романа Джейн Остин хриплый новый голос рисовал нам на страницах «Эдинбург ревю» характерные «Признаки времени»: «Мы ворочаем горы, превращаем болота в великолепные шоссе; ничто не может противостоять нам. Мы воюем с суровой природой и с помощью наших всесокрушающих машин выходим всегда победителями, нагруженные добытой прибылью». Очень ярко и эмоционально суммировал множество тогдашних впечатлений Томас Карлейль. По его словам, это был отход от концепции «героев» в истории государства и замена ее экономической политикой, о чем красочно писал Вальтер Скотт в романе «Уэверли»; это было спланированное фабричное сообщество Роберта Оуэна в Нью-Ланарке – наглядная политика отчаявшихся ткачей, работавших на ручных ткацких станках. Все происходящее вызывало изумление и тревогу у европейцев, посещавших Британию. А всего лишь через несколько месяцев после Нью-Ланарка была создана железная паровая «Ракета» Джорджа Стефенсона. Но можем ли мы из подобных образов и представлений построить непротиворечивую систему концепций, имеющих отношение как к нам самим, так и к тому периоду времени? Дж.М.Янг, его исследователь-первопроходец в «Портрете эпохи» (1936) показал, что тогдашние деятели «направлялись и вдохновлялись невесомым давлением евангелической дисциплины и почти универсальной верой в прогресс». Но история Янга, «изложенная в беседах людей, имеющих значительный вес в обществе», была историей элитарной; она игнорировала основную массу населения – горняков и фабричных рабочих, ирландских батраков и уличных бродяг Лондона – или же упоминала их в качестве «проблем». Отсутствовало понимание, что мощные движения, как это показал Л.Толстой в романе «Война и мир», возникают в результате индивидуальных решений миллионов простых людей. Лишь немногие англичане, современники французских и русских солдат, изображенных у Толстого, разделяли взгляды своих «высокопоставленных соотечественников», меньшинство видело Церковь изнутри, и, судя по тому, что они читали и писали, у них было мало веры в прогресс. Но как бы то ни было, при всех ограничениях свободы действий решения лиц, удостоенных «нелепой снисходительности последующего поколения», имели важное значение. Остановимся на них более подробно. По убеждению Э.П.Томпсона, автора этой фразы, существует неразрывный костяк интерпретации – законодательство. Не имеет значения, насколько полным было его соблюдение – а в XVIII в. зачастую очевидна его жестокость, – «власть закона» все же считалась общим достоянием. И это положение сохранялось с наступлением периода индустриализации. В 1832 г. в пользу политических реформ, призванных защитить власть закона от силового произвола, активно выступил молодой депутат Парламента Томас Бабингтон Маколей. «Когда закон сокрушает человека, ему остается только надеяться на силовое решение. Если закон становится его противником, он превращается в ярого врага закона…» Сделайте так, говорил он, чтобы закон охватывал более широкие слои населения, и они проникнутся доверием к системе государственного устройства. Подобная философия пыталась нейтрализовать «революционные» последствия индустриализации производства и создать платформу для нового политического курса. Развитие законодательной базы, кроме того, явилось моделью для других социальных и политических перемен. «Самые прекрасные и чудесные законы природы, созданные Богом», упомянутые в оксфордской инаугурационной лекции 1859 г., оказались экономическими, но то же самое можно было бы сказать о юриспруденции или геологии. Основы нравственного поведения личности, технические новшества, само представление о Британии – все это нашло отражение в законодательной базе, приведенной в соответствие с происшедшим поступательным движением. Некоторые характерные особенности прежней морали: взяточничество, безбожие, пьянство, распутство, увлечение азартными играми – стали со временем восприниматься представителями всех без исключения классов как пережитки прошлого и даже как антисоциальные поступки. Рационалистическое Просвещение, заимствованное из Шотландии или Франции, более дешевые потребительские товары убеждали в том, что человеческая жизнь может быть и продолжительнее, и удобнее. Если Сэмюэл Пепис считал жен подчиненных ему служащих Адмиралтейства своей законной добычей, то не менее влюбчивый Джеймс Босуэлл уже испытывал сильнейшие угрызения совести, чувствуя свою вину перед женой и детьми; это уже было предвестником новых нравственных ценностей, чем бы ни была обусловлена их необходимость: злом, причиняемым коррупцией и рабством, или же волнениями пролетариата, событиями во Франции и гневом Божьим, так живо изображенным Уильямом Блейком. Доказательство перемен нужно искать в конкретной ситуации. Но улучшилась ли она? Был ли достигнут более высокий уровень? Типична реакция английского путешественника, с удивлением обнаружившего в Венгрии, что местные жители не пользуются на своих водных путях парусными лодками, хотя у мусульманских соседей на Дунае достаточно dhows (дау, одномачтовых судов). Не вдаваясь в причины (возможно, в данном случае сказывались материальная заинтересованность гребцов и коннозаводчиков, существовавшее право знати на бесплатный транспорт или же исторически сложившиеся отвращение ко всему турецкому), наш путешественник объяснил увиденное «низменными наклонностями», препятствовавшими реформам и прогрессу. Ни «прогресс», ни власть закона не являлись неизбежным следствием поступательного движения, а должны были пробивать себе дорогу, преодолевая сопротивление «старых коррупционеров», неприязнь населения внутри страны и мощных конкурентов за рубежом. Прогресс предполагает нравственное совершенствование, а не экономические или политические манипуляции. Носителем новых моральных ценностей можно, например, считать героя книги миссис Крейк «Джон Галифакс, джентльмен» (1857): «Никакие насущные проблемы он не откладывал на потом, стараясь решить их вовремя; его дела были в образцовом порядке. Обязанности выполнялись неукоснительно в течение каждого рабочего дня. Тысяча и одна мелочь, постоянно возникающие при его положении мирового судьи и землевладельца, широкий интерес к движениям того времени, к самой системе неизменно занимали его. Строя отношения с внешним миром и среди ближнего окружения, он был готов трудиться не покладая рук и старался не оставлять без внимания ни одной жалобы. Всякая работа доводилась в срок до логического завершения, добро отличалось, зло исправлялось, по крайней мере, не прощалось». Власть закона отвечала давним английским традициям, но ее роль в качестве идеологии «эффективного» правительства была четко определена на внутренних приграничных территориях. Преодолевая свою извечную отсталость, шотландцы использовали различные правовые институты как инструменты консолидации земельного капитала, изучения и организации «гражданского общества». В Эдинбурге Адам Смит, Уильям Робертсон, Адам Фергюсон и Дэвид Юм соединили юриспруденцию с экономикой, историей, социологией, философией и создали довольно сложную конструкцию шотландского Просвещения. Такие выдающиеся личности, как Патрик Колкухаун, Джеймс Милль, и сотрудники «Эдинбург ревю» распространили его ценности на юг Англии. Вклад Ирландии был совсем иным. В своем «Законе» настоятель Свифт писал, что «в Ирландии нет места католикам». Протестантское законодательство, по определению, носило принудительный характер. Неудивительно, что Ирландия познакомилась с первой государственной полицейской службой Британии в 1814 г. Хотя новые законы помогли в 1799 г. покончить с рабским трудом шотландских шахтеров и рабочих соляных копей, а в 1807 г. – с работорговлей в пределах Британской империи, английские и шотландские сельские батраки и мелкие арендаторы практически ничего не получили, несмотря на их значительную роль в «облагораживании» сельской местности. Закон еще определеннее, чем прежде, служил орудием собственности, перед лицом угрозы нападения из Европы он помог объединить местную правящую элиту и все еще неоднородное по имущественному положению английское общество. Вожди кланов и шотландские лэрды, в 1745 г. тяготевшие к поддерживаемому французами Чарлзу Эдварду, теперь превратились в крупных землевладельцев, у которых уже не было ничего общего с революционерами. Им были одинаково чужды и якобинские, и якобитские идеи. Вместе с тем последующее использование законодательства для достижения национального единения и обеспечения экономических преобразований явилось для всех очень нелегким испытанием. Индустриальное развитиеВ 1815 г. какой-нибудь глубокий старик, еще помнивший охватившую Лондон панику, когда якобиты маршировали по Манчестеру в 1745 г., наверное, несказанно удивился бы перемене, происходившей на международной арене: полным изменением позиций Британии и Франции. И это было не результатом более чем двадцатилетней войны, которая завершилась победой в битве при Ватерлоо, а следствием последовательного индустриального развития и овладения важными рынками сбыта. Континентальная блокада разрушила экономику крупных французских портов, на улицах Бордо проросла трава. Между тем Британия захватила в свои руки около 20% мирового товарообмена и не менее половины торговли промышленными изделиями. Индустриальное развитие не следовало каким-то заранее намеченным, предсказуемым курсом, твердо гарантировавшим успех. Этот процесс был постепенным и подверженным многим случайностям. Адам Смит с подозрением относился к промышленному производству; даже в 20-х годах XIX в. экономисты сомневались в способности новых технологий поднять общий жизненный уровень. Но в том столетии Британия вполне определенно продвинулась вперед, оправдывая оценку Грегори Кинга (1688), по словам которого рудники, промышленность и строительство давали пятую часть валового национального дохода Англии и Уэльса. (Для всей Британии эта цифра была несколько меньше, так как приходилось учитывать экономически отсталые Шотландию и Ирландию.) По оценкам 1800 г. «промышленность» (manufacturing) Британии приносила 25% национального дохода, а торговля и перевозки – еще 23%. Подобные темпы роста вполне соответствовали и французским возможностям. Британии, однако, помогли выдвинуться вперед качественные изменения, прежде всего в организации сбыта товаров, в технологии производства, в формах государственного вмешательства в предпринимательскую деятельность, а также внедрение капиталистических способов хозяйствования в аграрном секторе, в котором создавалось 33% национального продукта. Если во Франции революция, расширив права крестьян, сдерживала развитие сельскохозяйственного производства, то в Британии феодальные поместья быстро превратились в процветающие аграрные фермы, как нельзя лучше приспособленные для коммерческого использования. В 1745 г. Франция по численности населения (21 млн человек) вдвое превосходила Британию. Французская экономика, благодаря королевскому покровительству и государственному контролю, не только выпускала огромное количество разнообразной продукции, но и применяла технологические новшества, развиваясь так же быстро, как и английская. Однако технология в Британии под влиянием новых требований изменялась быстрее; во Франции же ее развитие сдерживалось как государственным вмешательством, так и стремлением полагаться на традиционные хозяйственные ресурсы. Французы по-прежнему в изобилии заготавливали древесный уголь, в то время как английские производители железных изделий уже пользовались каменным углем. Гигантская суконная промышленность Франции была тесно увязана с индивидуальными крестьянскими хозяйствами; в Британии же система огораживания общественных земель и растущая эффективность аграрного сектора ограничивали распространение домашнего производства, что стало одной из причин строительства крупных промышленных предприятий, которые нуждались для выпуска продукции в водяных или паровых силовых установках. Но самое главное: к 70-м годам XVIII в. Британия уже одержала верх в торговой войне, вытеснив Францию с испанских территорий за океаном, из Индии и Канады, и, даже потеряв колонии в Америке, вскоре снова выправилась благодаря заметному расширению торговли хлопком. Проведенная в 1801 г. первая официальная перепись населения показала, что в Англии проживает 8,3 млн человек, в Шотландии – 1,63 млн, в Уэльсе – 587 тыс., в Ирландии – 5,22 млн человек. Это позволило покончить со всякими спорами относительно населения, которое с 1750 г. увеличилось примерно на 25%, на 50% превысив средний европейский показатель. Правда, полемика продолжалась, но теперь она касалась причин этого. Смертность среди британцев снизилась где-то перед 1750 г. (как результат улучшения в сфере питания и личной гигиены и ограничения воздействия массовых эпидемий). Это не замедлило сказаться на уровне рождаемости, поскольку большее число выживших детей могло достигнуть продуктивного возраста. В условиях возросшей производственной активности и заметного сокращения численности семейных ферм дети в Британии стали важным источником дохода. «А ну-ка, парни, даешь детей! – призывал крестьянский писатель Артур Юнг. – Они стоят больше, чем когда-либо раньше». В Ирландии рост населения был обусловлен иными причинами: стремлением землевладельцев получить дополнительную арендную плату, с одной стороны, а с 20-х годов XVIII в. – интенсивным выращиванием картофеля, что в 3 раза увеличило его сбор с каждого земельного участка. Во столько же раз, по мнению землевладельцев, должен возрасти и доход с одного акра земли. В итоге за пятьдесят лет (1780-1831) численность населения Британии повсеместно удвоилась. Численность населения, млн человек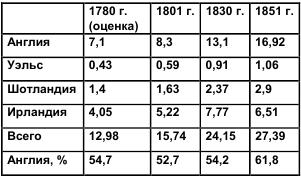 Как показали последние подсчеты, в начале XIX столетия британское сельское хозяйство было не только в 2,5 раза продуктивнее французского, но и превосходило в этом отношении любое другое европейское государство. А это означало, что, несмотря на интенсивный отток населения в города при одновременном увеличении его численности, аграрный сектор был в состоянии обеспечить потребности внутреннего рынка в продуктах питания. В 1801 г. около 30% населения собственно Британии обитали в крупных городах и еще 21% – в городах с населением не менее 10 тыс. жителей; по числу горожан она обогнала все страны европейского севера. Правда, из общего количества таких городов промышленными были менее четверти. Значительно больше людей проживало в морских портах, при судостроительных верфях и в региональных центрах. Лондон, столица, не имевшая себе равных, насчитывал 1,1 млн человек, или более трети всех горожан страны. Хотя территориально население было распределено более или менее равномерно и население графств неуклонно росло, на «кельтской окраине» проживала еще почти половина (45%) всех жителей Соединенного Королевства: Дублин (165 тыс. человек) и Эдинбург (83 тыс.) входили вместе с Лондоном в лигу больших городов; Корк и Лимерик были крупнее большинства промышленных городов. Довольно сложная организация региональных центров являлась отражением превалирующей роли местного дворянства, духовенства, фермеров, людей, имеющих специальность, и десятилетиями расширяющейся торговли. Именно торговля, а не промышленность задавала тон в британской экономике. Города континентальной Европы строго контролировались или только-только освобождались от контроля, их торговля носила довольно ограниченный характер и к тому же облагались налогами по сложной и весьма разорительной системе. Средневековые шлагбаумы в небольших немецких городках все еще опускались с наступлением темноты, чтобы «чужаки» не проникли на местные рынки. В Британии, для сравнения, почти не существовало препон для внутренней торговли, и «меркантилистское» правительство всячески поощряло приобретение «богатств путем внешней торговли». В XVIII в. произошли важные перемены. Казавшаяся нескончаемой война в проливе Ла-Манш и размах контрабандных операций, центром которых был островов Мэн, стали причиной смещения торговых маршрутов в северные широты. Ливерпуль богател и развивался на торговле зерном, хлопком и рабами, Глазго – на торговле табаком, полотном, хлопком, а также изделиями машиностроения. Постепенно, налаживая транспортные связи с внутренними территориями и развивая обрабатывающую промышленность, эти города расширили свои функции далеко за рамки обычных перевалочных пунктов. Торговля и распределение дали важнейший импульс индустриализации. Ни в одном европейском государстве 30% населения не проживало в городах, где его нужно было кормить, одевать и обогревать, ни одно из государств континентальной Европы не контролировало такие гигантские заморские рынки. Общества и объединения, с помощью которых британские купцы успешно справлялись с этими нелегкими задачами и создание которых действующими законами не просто разрешалось, но прямо-таки поощрялось, являлись инструментами, позволявшими всякое улучшение в сфере производительности преобразовывать в прибыль, кредит или в дополнительные инвестиции. Количественно растущий в стране «респектабельный класс» поддерживал внутренний рынок, обеспечивая устойчивый спрос на одежду, кухонную утварь, строительные материалы, посуду; с 1750 по 1800 г. этот спрос возрос на 42%. Между тем экспорт товаров увеличился за этот же срок на целых 200%, причем в основном это происходило после 1780 г. Наряду с сельским хозяйством доминирующее положение в экономике занимали угольная, металлургическая и текстильная отрасли промышленности. Первые две обеспечивали значительную часть капитального оборудования, инфраструктуру и готовили условия для дальнейшего развития, а текстильная индустрия работала в основном на экспорт: в 1750 г. свыше 50% ее продукции вывозилось за рубеж, в 1800 г. этот показатель уже превысил 60%. Если в 1750 г. доля хлопка в общем объеме готовой продукции была невелика, то в 1810 г. она составляла уже 39%, и это сырье занимало лидирующее положение. Добыча угля за пятьдесят лет, начиная с 1750 г., удвоилась, ибо внедрение в производство паровых насосов позволило разрабатывать более глубокие и богатые пласты, а железные дороги на конной тяге облегчали доставку угля на большие расстояния к водным магистралям. Металлургическая промышленность тоже бурно развивалась: с 1788 по 1806 г. выплавка металла увеличилась на 200%. Это стало возможным благодаря применению в плавильных печах каменного угля вместо древесного и усовершенствованию пудлингования и проката ковкой стали, а также в связи с необходимостью удовлетворять все возрастающие потребности войны. Но движущей силой индустриализации являлась все-таки текстильная промышленность. Специализированными товарами Англии всегда были шерсть и лен. Доминируя в континентальной Европе, они стали под покровительством правительства шире использоваться, прежде всего в Ирландии и Шотландии. Значение хлопка возросло с переходом на машинное производство, а также с резким увеличением объемов поставок сырья с американского Юга, где процветало рабство. Новые ткацкие машины были довольно примитивными. Однако повышение спроса на текстильные изделия помогло преодолеть сопротивление трудового люда. Механический (летучий) челнок для ручного ткацкого станка Джона Кея, удвоивший выпуск готовой продукции и уничтоженный на первых порах его применения в 30-х годах XVIII в., через сорок лет был охотно принят вместе с прядильной машиной «Дженни» Джеймса Харгривса, управлявшейся вручную, и прядильным станком с водяным приводом Ричарда Аркрайта. Крупные фабрики со станками Аркрайта возникли на обширной территории – от Дербишира до Ланкашира и Шотландии. Пока конкурентная борьба не снизила цены – на две трети между 1784 и 1832 гг., – были нажиты огромные состояния. Умелое использование Аркрайтом запатентованного изобретения принесло ему 200 тыс. фунтов стерлингов и титул баронета. У сэра Роберта Пила, набойщика по ситцу и отца будущего консервативного премьера-тори, к концу его карьеры трудилось 15 тыс. человек. По подсчетам Роберта Оуэна, он и его партнеры получили за период между 1799 и 1829 гг. со своих текстильных фабрик Нью-Ланарка чистой прибыли – после выплаты 5% в виде дивидендов – в размере 300 тыс. фунтов. В течение примерно двадцати лет испытывали определенное улучшение своего материального положения и ткачи, работавшие на ручных ткацких станках. Этот период относительного благополучия закончился для них с внедрением механических ткацких станков и с массовым наплывом на рынок труда ирландских иммигрантов, а также (после 1815 г.) демобилизованных солдат. Судьба ткачей превратилась в одну из самых тяжелых трагедий века. Технологию обработки хлопка довольно быстро приспособили для изготовления камвольной ткани и, несколько медленнее, для материала из льна и шерсти. Одновременно это дало толчок развитию технического изобретательства и возведению металлических конструкций. Требовались мощные и надежные механизмы, способные приводить в движение тысячи веретен. Ткацкие фабрики – легковоспламеняющиеся сооружения – следовало по возможности обезопасить от пожаров металлическими опорами и перекрытиями. В 1770 г. Аркрайт устанавливал свои преимущественно деревянные станки в Кромфорде с помощью слесарей-монтеров и часовых дел мастеров. Однако скоро проектирование прядильных фабрик и сборка машин превратились в сугубо специализированный вид деятельности с использованием водяных колес мощностью до 150 л.с, сложных прядильных станков (снабженных двигателем гибрида «Дженни» и фрейма, прядущего нить очень тонких «номеров»), а затем и с возрастающим использованием энергии пара. Свою паровую машину с цилиндром двойного действия Джеймс Уатт запатентовал в 1774 г., а ее вариант с центробежным регулятором – в 1781 г. Уже в 1800 г. ее главными пользователями стали хлопкопрядильные фабрики, ибо она являлась надежным и постоянным источником энергии для прядильных мюль-машин. Изобретение Уатта вскоре дало толчок созданию локомотива (1804) и парохода (1812), развитию станкостроительной промышленности, прежде всего связанной с именем Генри Модсли, сконструировавшего токарно-винторезный станок с механизированным суппортом. Это позволило (вместе с таким прибором, как микрометр) изготавливать детали машинным способом и с абсолютной точностью. С этого момента машины уже могли воспроизводить сами себя, и не было предела их конструктивной сложности. Работа часовщика в XVIII в. больше не требовала какого-то выдающегося таланта – достаточно было обыкновенных знаний основ устройства механизмов. Период создания транспортной инфраструктуры был золотым веком инженерного искусства; такие умельцы, как Бриндли, Смитон, Телфорд и Ренни, старались максимально повысить эффективность водного транспорта и лошадиной тяги, а парусные суда усовершенствовали настолько, что они до 80-х годов XIX в. продолжали успешно конкурировать с пароходами. Ужасные сельские дороги ремонтировались и снабжались указателями, некоторые прокладывались заново частными компаниями или, в отдельных случаях, правительством. В 1745 г. нужно было потратить почти две недели, чтобы доехать от Лондона до Эдинбурга, в 1796 г. – только 2,5 дня, а в 1830 г. – около 36 часов в карете или на пароходе. Под воздействием постоянного роста речного судоходства в XVII столетии в Ирландии к 30-м годам следующего века была создана целая сеть шлюзовых каналов. Но лишь после реализации в 1760-1771 гг. планов герцога Бриджуотерского, задумавшего соединить Манчестер и Ливерпуль каналами с местными залежами каменного угля, стало очевидным важное значение водного транспорта для промышленного развития. Работавший у герцога инженер Бриндли спроектировал «узкий» канал, чтобы предотвратить потерю воды в «сухих» центральных графствах. В мирный период 1764-1772 гг. компании, организованные дворянами, купцами, фабрикантами и банкирами, сумели соединить все главные судоходные реки страны. Подобные частные предприятия могли получать – как в случае с оксфордским каналом – до 30% дивидендов, однако в среднем эта цифра равнялась 8%. Следующий строительный бум в 80-х годах вывел всю систему за приемлемые с коммерческой точки зрения рамки, но Британия имела теперь транспортную сеть, которой не было равных ни в одной стране континентальной Европы, а совместные усилия людей, приверженных прогрессу, помогли преодолеть многие барьеры на пути к сотрудничеству и взаимодействию. Реформа и религияБританское правительство не играло и не желало играть большой роли в процессе индустриализации, но, как показали Хлебные законы, принятые в 1815 г., оно не хотело занимать и позицию стороннего наблюдателя, невмешательства (laissez-faire) и постоянно придерживалось принципа благоприятствования, в первую очередь промышленным капиталистам и, конечно, крупным землевладельцам, которые зачастую тоже вкладывали капитал в горно-добывающую промышленность, транспорт и в недвижимость. Аксиомы Блэкстоуна и Бёрка гласили: преемственность, разделение властей, взаимопроникновение управления, экономики и общества и прежде всего представление о правительстве как о саморегулирующемся механизме – все это служило дополнением к механизмам классической экономики, научным открытиям и даже к деизму, культивируемому в верхних слоях общества. Идеальное решение назревших проблем предполагало обновление. Во время Войны за независимость в Америке коррупция и некомпетентность нанесли стране чувствительный урон. Жестокость толпы, ее склонность к насилию (достаточно вспомнить гордоновский мятеж 1780 г.) сделали респектабельных реформаторов более осмотрительными, тем не менее реформы признавались необходимыми. Это отчетливо выразили в своих сочинениях, хотя и по-разному, Адам Смит и Джон Уэсли. Проблема состояла в том, как добиться этого в конституционных рамках. Попытки отдельных общественных движений сделать политику более принципиальной и симметричной лишь обнажили многообразие противоположных интересов и подлинный размах откровенной коррупции. «Обширное гнилое местечко», именуемое Шотландией, где 4 тыс. избирателей (лишь один из 114 жителей мог голосовать, в то время как в Англии правом голоса обладал каждый седьмой гражданин) выбирали 45 парламентариев, получало вознаграждения от своих «менеджеров», семейства Дандас, в виде должностей в Ост-Индской компании или в Адмиралтействе. В Ирландии после 1782 г. ни один католик не мог голосовать на выборах в «свободный» Парламент. Из-за крайне неравноправного распределения политической власти крупным индустриальным городам для защиты своих интересов приходилось использовать давление влиятельных организаций, например Всеобщей палаты промышленников. В 1801 г. 700 тыс. граждан Йоркшира имели только двух депутатов от графства и 26 депутатов от городов, а в Корнуолле 188 тыс. жителей посылали в Парламент двух человек от графства и 42 депутата от городов. Диссентерам и католикам после 1793 г. было разрешено голосовать, но они не могли заседать в Парламенте. С другой стороны, воздействие депутатов на политику являлось настолько ограниченным, а предвыборная кампания обходилась кандидатам так дорого, что подобное отстранение можно было считать благом. Хотя общая численность квакеров неуклонно уменьшалась, сложные и тесные межсемейные узы (члены секты не могли вступать в брак с «посторонними» и оставаться после этого в ее рядах) позволяли им контролировать многие компании по всей стране – от чугунолитейных и свинцово-плавильных заводов до крупных банков и железных дорог. Свободомыслящие унитарии, «верившие не более чем в одного Бога», были энергичными проводниками научных знаний и образования в провинции. Несколько иначе проходило Евангелическое возрождение. Популистское и берущее начало в традиционной Высокой церкви, оно извлекало вдохновение из религиозного наследия XVII в., каким оно представлено у Джона Беньяна и каким его пропагандировал Джон Уэсли, и из благочестивых сочинений, например, Уильяма Лоу. В отличие от «старого диссентерства» и кальвинистского «избранничества» оно подчеркивало, что благодать доступна для всех, кто руководствуется в жизни библейскими заповедями. Оно было респектабельным, но не привилегированным, экуменическим и преисполненным «энтузиазма» (многие из тех, кто стал строгим агностиком и критиком Высокой церкви, начинали как убежденные сторонники евангелистов). Словом, это была вера, противостоящая периоду кризиса, атеистической революции, бездушным отношениям в промышленности, жесткому личному поведению. Питт имел слабость к спиртному, Фокс – к игре, но оба были восприимчивы к особого рода давлению со стороны евангелистов, занимавших высокое положение. В политическом смысле движение Евангелического возрождения – явление консервативное, однако вскоре оно стало развиваться в различных направлениях. В 1795 г. «Общество методистов», основанное Уэсли, откололось от Англиканской церкви, так как было не согласно с практикуемой процедурой посвящения в духовный сан. Правда, оно продолжало оставаться в партии тори, но другие группы методистов, например примитивисты (отделились в 1811г.), сделались более независимыми и радикальными. Методисты концентрировались в основном на севере страны («подлинная религия Йоркшира»), баптисты и конгрегационалисты преобладали в промышленных городах, где местная элита зачастую примыкала к унитариям или квакерам. Неортодоксальные ценности подробно описала в своем политическом романе «Феликс Холт» (1867) Джордж Элиот: «Какая-то часть населения не считала, что в старой Англии все было как нельзя лучше. Множество мужчин и женщин вполне сознавали, что их правители не придерживались одинаковой с ними религии, могли быть более праведными и, следовательно, могли изменить многое из того, что причиняло людям страдания и делало мир греховнее». Религиозная революция завершилась в Уэльсе «живой религией». В 1800 г. более 80% местных жителей все еще были приверженцами государственной Церкви. Ее миссионерские усилия в середине XVIII в., «передвижные школы» повысили грамотность (на валлийском языке) и религиозное воодушевление, далеко превзойдя рамки того дела, которое Церковь поддерживала. Образовавшийся местами религиозный вакуум поспешили заполнить методисты кальвинистского толка и другие нонконформисты. В 1851 г. церковь регулярно посещало 80% населения Уэльса. В Шотландии пресвитерианская церковь, руководившая образованием и раздачей пособий беднякам, практически была подчинена законодательной власти. Контролируемая землевладельцами, со своим мирским и либеральным духовенством, она подвергалась все более интенсивным нападкам со стороны не только независимых пресвитерианских общин, но и тех, особенно евангелистов, кто желал наделить властными полномочиями конгрегации. В Ирландии традиции диссентеров поначалу были довольно либеральными; их руководители приравнивали свой правовой статус к положению католиков. События 90-х годов XVIII в. и рецидив евангелистского фундаментализма углубили разногласия между протестантами северо-востока и остальной страной. Войны за рубежомИзвестие о Французской революции вызвало в Британии всеобщее воодушевление. На худой конец она ослабляла давнего непримиримого врага, но при лучшем исходе в Европе появилось бы еще одно конституционное государство. Чарлз Джеймс Фокс, Джеймс Уатт, Джозеф Пристли, молодой Вордсворт и Колридж – все восторженно приветствовали ее. Революция вдохновила Роберта Бёрнса сочинить стихотворение «"Scots wha" hae», явно нацеленное на тогдашнюю ситуацию в Британии. Даже правительство не спешило вторить суровому осуждению Эдмунда Бёрка, содержащемуся в его книге «Размышления о революции во Франции», опубликованной в ноябре 1790 г., пока все выглядело, так как весьма умеренное конституционное движение. Между тем Бёрк выразил именно те чувства, которые обуревали истеблишмент, особенно после того, как Париж в июне 1791 г. явно качнулся влево, отбросив традиционную почтительность и прибегнув к насилию. По мнению правящей элиты Британии, реформы допустимы, но только если они не затрагивают основ существующей политической структуры. В своем произведении Бёрк нападал на Францию и поддержал тезисы Блэкстоуна, выступившего в защиту английской политической системы. Но по-настоящему власти встревожил ответ Томаса Пейна, радикального англоамериканца, содержавшийся в его брошюре «Права человека» (1791-1792), в которой автор высказался за демократические преобразования и свободу личности. Возможно, Бёрк невольно дал толчок тому, чего пытался избежать. Если за шесть месяцев было продано 19 тыс. экземпляров книги «Размышления о революции во Франции», то брошюра «Права человека» разошлась 200-тысячным тиражом – цифра неслыханная для все еще полуграмотного общества. Подобного ажиотажа вокруг печатной полемики не наблюдалось со времен гражданской войны. Самое большое беспокойство у британского правительства вызывали две вещи: воздействие французских призывов к «самоопределению» на британских союзников в Нидерландах и заразительность революционных идей. Европейские монархии отказались от джентльменских правил ведения войны, практиковавшихся в XVIII в., и с лета 1792г. стали относится к французам как к бешеным псам, которых следует пристрелить. Те, в свою очередь, провозгласили всеобщий крестовый поход под лозунгом «Отечество в опасности». Британские угрозы и предупреждения на дипломатическом и политическом уровне лишь придали больше уверенности тем чересчур оптимистически настроенным революционерам в Париже, которые считали, что война неизбежно приведет к революции в Британии. И вот 1 февраля 1972 г. Франция объявила войну. Британия была застигнута врасплох, она не была готова к ведению широкомасштабных боевых действий. Численность сухопутных войск составляла 45 тыс. человек, и только каждый десятый военный корабль мог выйти в открытое море. Кроме того, эта война существенно отличалась от прежних англо-французских вооруженных конфликтов. Новая армейская тактика, атакующий революционный порыв, высокое мастерство новых французских командиров – все это с самого начала поставило союзников Британии в Европе в трудное положение. К 1797 г. Австрия капитулировала, и теперь британцы оказались в одиночку лицом к лицу с французской армией Бонапарта. В начальной стадии войны все внимание правительства было уделено трем вещам: угрозе вторжения, расходам на войну, борьбе с внутренней оппозицией. Французские войска пытались высадиться трижды – один раз в Уэльсе и дважды в Ирландии. В 1797 г. в Пемброкшире они не получили поддержки местного населения, в следующем году отряд под командой генерала Юмбера сошел на берег близ Киллалы в Мейо и, опираясь на местных союзников, сражался две недели, прежде чем был разбит. Правительство Британии надеялось выстоять, укрепив побережье башнями Мартелло, включив в вооруженные силы милицию (внутренние силы самообороны) и распространив действие Закона о милиции на Шотландию и Ирландию. Осуществление этих мероприятий обернулось нескончаемой головной болью для местных чиновников. Поскольку субсидии союзникам к 1795 г. достигли десятков миллионов фунтов, возникла необходимость резко увеличить налоги. Кроме того, правительство действовало чрезвычайно сурово против группировок, выступавших за мир с французами или солидаризировавшихся с ними. В 1793-1794 гг. «режим террора Питта», при содействии провинциальных магистратов, крупных промышленников, различных патриотических объединений, ликвидировал многие радикальные организации. Особенно жестокими репрессии были в Шотландии, где лорд Браксфилд с брутальным шотландским юмором деспотически отстаивал «самую совершенную из когда-либо созданных конституций». Сарказм Браксфилда – на слова одной из жертв, что Иисус был реформатором, он ответил: «Дерьмово, что он сделал это. Его ж повесили!»- символизировал конец свойственного высшим классам либерализма в шотландском Просвещении. Тридцать лет открыто продолжавшихся жестких преследований поддерживались шотландскими союзниками Питта из законников – семейством Дандас. В Ирландии перемены были еще более драматичными. Война побудила Питта в 1793 г. надавить на ирландский Парламент и заставить его наделить католиков правом голоса. Таким путем Питт пытался побудить эту часть ирландцев отказаться от поддержки «безбожных» французов. Однако несектантский радикализм общества «Объединенные ирландцы» быстро усиливался. Ему противостояла созданная в 1798 г. в Ольстере ирландскими ультрапротестантами Оранжистская ложа. Не прекращались и стихийные выступления католического крестьянства, возмущенного привилегированным положением протестантов и подстрекаемого священниками, получившими духовное образование во Франции и пропитанными революционными идеалами. Незадолго до высадки отряда Юмбера в графстве Уиклоу (Ирландия) имела место короткая, но яростная вспышка насилия, отчетливо показавшая полную изоляцию протестантской администрации. В 1800 г. Ирландия последовала примеру Шотландии (1707 г.) и вошла в политический союз с Англией. За исключением короткого периода в 1801-1803 гг., «война за рубежом» продолжалась до 1815 г. К тому времени Британия израсходовала на военные нужды 1,5 млрд фунтов стерлингов, однако конечные результаты оказались сомнительными и достаточно ограниченными, и скоро война стерлась из народной памяти. Большую часть этого периода Британия походила на военный лагерь: происходили нескончаемые наборы в отряды милиции, и в любой момент каждый шестой взрослый мужчина находился под ружьем. Правда, в сравнении с Францией лишь немногие служили за рубежом, однако потери были все-таки довольно большими – примерно 210 тыс. человек. Между тем Франция переживала демографический спад: за пятьдесят лет (1800-1850) ее население увеличилось на 32%, в то время как в Британии оно за тот же период возросло на 50%. После 1805 г. британское превосходство на море было бесспорным; блокада французских торговых портов нанесла значительный ущерб французской промышленности, зависевшей от их активности. Как писал Адам Смит, война вносит свои коррективы в обычные потребности работников различных профессий, создавая повышенный спрос на некоторых особо востребованных специалистов. Именно так и было. Процветал не только традиционный район выплавки черного металла на западе центральных графств, но и определенные районы Шотландии и Южного Уэльса, где население прежде захолустного городка Мертир-Тидвил благодаря каналу увеличилось за тридцать лет (1790-1820) в 20 раз; и это район, где самый крупный город середины XVIII в. – Кармартен едва насчитывал 4 тыс. жителей! Морская блокада душила конкурентов, и Британия, всегда игравшая главную роль в международной торговле изделиями текстильной промышленности, достигла того, что ее производители стали одевать французскую армию. Громадные судоверфи Чатема, Портсмута и Девонпорта еще больше расширили свои рабочие площади и стали застрельщиками в деле массового производства. Они существенно улучшили характеристики парусных боевых кораблей, и проявленное при этом новаторство ничуть не уступало перевороту, которое произвело в кораблестроении использование паровых двигателей. Морской флот высветил многие социальные проблемы, типичные для Британии того периода. Скверные условия существования моряков спровоцировали в 1797 г. бунты в Спитхеде и Ноуре. Политические требования не выдвигались; при всем накале возмущения мятежники в подавляющем большинстве оставались патриотами. Чтобы справиться с ними, применили испытанный метод кнута и пряника. Точно так же правительство отбило и другие попытки облегчить участь трудового люда. В специальных законах, принятых в 1799 г., профессиональные союзы объявлялись революционными организациями, деятельность которых запрещалась. Правительству удалось также блокировать предложения определить в законодательном порядке минимальные размеры оплаты труда и восстановить прежнюю систему взаимоотношений частных производителей, за которую выступал в основном малый и средний бизнес. Подобные меры, в сочетании с депрессией, вызванной преобладанием инвестиций в государственные ценные бумаги и торговой войной, явились причиной стагнации в 1790-1814 гг. реальной заработной платы. Однако довольно либеральные условия выдачи пособий по бедности, принятые во многих графствах в 90-х годах XVIII в. (так называемая Спинхэмлендская система), безусловно, предотвратили более острые социальные конфликты. На протяжении почти всей войны Британии удалось избежать непосредственного участия в боевых действиях на континенте. Она предпочитала финансировать различные коалиции, создававшиеся под ее эгидой, сначала против революционной Франции, затем против Наполеона. Это был несколько видоизмененный вариант распространенного в XVIII в. способа ведения войны с помощью наемников. Только однажды британские войска сражались на европейском театре войны – в 1811-1814 гг. на Пиренейском полуострове. Зато впечатляли достижения Британии в других районах земного шара: она заметно укрепила свою власть в Индии и, используя Сингапур как базу, добилась господства над Голландской Ост-Индией, в 1795-1816 гг. покорила Цейлон, отобрала у голландцев Южную Африку и заявила свои права на Египет. Неофициально она утвердила собственную торговую гегемонию в формально испанских колониях Центральной и Южной Америки. Однако, несмотря на столь крупные победы Британии, более зримый и ощутимый след в Европе оставляла все-таки Франция. Куда бы ни проникали армии Наполеона, они повсюду вводили свои законы, системы мер и весов, формы организации местного управления и прежде всего свой национальный революционный дух. Карта Европы совершенно изменилась. До 1789 г. Британия была частью континентального сообщества. Дэвид Юм и Адам Смит больше чувствовали себя как дома в Париже, чем в Эдинбурге и, пожалуй, даже в Лондоне. После 1815 г. Британию все еще отделяла от европейской жизни солидная дистанция, несмотря на прогресс экономики, который привлекал сотни иностранцев. В самой стране война и депрессия разделили политические течения на два противоположных лагеря – «революционеров» и «лоялистов». «Режим террора Питта», патриотические объединения, толпы черни, кричащей: «За веру и короля!», заставили демократически настроенных граждан, ранее довольно активных, или вовсе уйти с политической арены, или же объединиться с наиболее угнетенными слоями населения, например с ирландцами и рабочим классом. Носители «якобинских традиций» сделались в такой же мере восприимчивыми к изменениям в экономике и производстве, в какой они были чувствительными к «злу», причиняемому действующим правительством. Диффузная, летучая смесь всего – от анархизма до религиозного милленаризма – продолжает характеризовать рабочее движение, в том числе и чартизм. Как это ни парадоксально, но неизменно практический подход правящей элиты к решению возникающих проблем и использование репрессий для укрепления государственной власти вызвали к жизни новых, радикально настроенных соперников. Евангелисты, ведомые Уильямом Уилберфорсом и клапхемской сектой, вознамерились наставить верхние слои британского общества на путь истины. Ту же цель поставил перед собой и Иеремия Бентам, богатый адвокат, веривший, что обществом можно управлять с помощью не требующих доказательств, очевидных принципов, как это происходит в экономике. Основным принципом данной теории, именуемой «утилитаризмом», Бентам считал «обеспечение наибольшего счастья наибольшего числа людей». Непримиримый противник всех идеалов «общественного договора», он выступал против Французской революции и пытался заинтересовать британское правительство своей теорией и предложениями по реформированию законодательной базы и тюрем. Разочарованный кажущимися неудачами, он примкнул к сторонникам демократических реформ и в 1815 г. уже выступал за всеобщее избирательное право. «Философские радикалы» (так стали называть последователей Бентама) предлагали определенные институциональные реформы при сохранении действующей политической системы, а после 1815 г. приобрели сторонников среди умеренных рабочих лидеров. Они же являлись авторами идеи централизации функций государства и теории общественного контроля, которые продолжали оказывать сильное влияние на умы современников. Согласно концепции Бентама, местные органы власти должны собирать налоги и оперативно управлять в округе соответствующего размера. Надзор над ними должен быть возложен на оплачиваемых из казны инспекторов, подотчетных центральному совету. Это поможет покончить с «извечной коррупцией» и расточительством и повысить ответственность администрации. На самом деле, однако, во всех этих делах тон задавали чиновники. Быть может, Бентам и его сторонники – оба Милля (отец и сын) и Эдвин Чедвик – со временем и приняли бы демократические принципы, но в тот период они соглашались лишь предоставить народным представителям право налагать вето на действия администрации. Неудивительно, что их концепция успешнее всего претворялась в жизнь именно в Британской Индии. Законодательство приобрело классовый оттенок. Трудящиеся, привыкшие решать в суде вопросы, связанные с производственными травмами, лишались этого права. Кроме того, были заметно ограничены возможности их самостоятельных выступлений. Тревоги богатых собственников обернулись ужесточением до тех пор не очень эффективных санкций. «Сотворение английского рабочего класса», по крайней мере отчасти, явилось реакцией на войну, индустриализацию и репрессии и отражало откровенное возмущение несправедливыми законами. У Уильяма Коббета было мало уважения к «Тингу» («the Thing») (негласным объединениям богатых, чтобы эксплуатировать бедных); практически игнорировал его и Роберт Оуэн. Последователи Бентама считали, что привилегированные слои общества руководствуются в своих действиях «низменными интересами». И хотя против существующих правил открыто протестовали только ирландцы, власть закона утвердилась не сразу и с большим трудом. Это стало возможным, пожалуй, только благодаря всплеску новой волны агитации за конституционные изменения, последовавшей за длительным периодом всеобщего ожидания. Дороги к свободе
После 1815 г. послевоенному правительству тори пришлось столкнуться с новой группой радикально настроенных литераторов. Колриджа и Вордсворта, приверженцев сил порядка, сменили Шелли и Байрон. Администрация лорда Ливерпула 1812-1827 гг. была в своей основе буржуазной, включавшей нетитулованных мелкопоместных дворян, сыновей врачей и купцов и даже (в случае с Джорджем Каннингом) сына актрисы. Хотя и заклейменное как реакционное – некоторые его члены таковыми и являлись, – правительство в целом стояло на правоцентристских позициях; оно было довольно либеральным (по мерке европейской Реставрации) для колоний и примирительным у себя дома. Вместе с тем правительству Ливерпула пришлось преодолевать проблемы, связанные с послевоенным спадом производства и волнениями в рабочей среде, погашать военные долги и заботиться об устройстве демобилизованных военнослужащих. Оно получало мало помощи от искусной оппозиции вигов, которая, не стесняясь, терзала его в новых литературных журналах, используя богатые традиции массового протеста – от «нештемпелеванных» газет, издававшихся Генри Хетерингтоном и Ричардом Карлайлом, до буколического радикализма Уильяма Коббета и визионерского милленаризма Уильяма Блейка. Оказывали давление и землевладельцы, которые в соответствии с принятым в 1815 г. Хлебным законом стали получать субсидии под будущий урожай; это, очевидно, отсрочило более чем на десять лет недовольство и волнения среди земледельческого крестьянства. Но все это стало дорого. Еще сильнее, чем в 1811-1812 гг., угрожали нарушить привычный порядок в государстве индустриальные города, где послевоенный спад деловой активности явился причиной широко распространенной безработицы и заметного снижения заработной платы. Самосознание рабочих, в большей степени относительно их производственного положения, чем классовой позиции, неуклонно возрастало с 1800 г., а местные власти, предприниматели и мировые судьи остро ощущали свою изоляцию. Действительно ли опасения, часто высказываемые этими господами при виде беснующейся толпы якобинцев у своих ворот, и революционные призывы некоторых вождей рабочего класса усугубили угрозу свержения режима, которую все-таки удалось предотвратить? Возможно, те и преуспели бы при согласованных действиях, при наличии общей экономической цели, способной объединить индустриальных рабочих с парламентскими радикалами, т.е. квалифицированными столичными торговцами, и, конечно, если бы правящая верхушка потеряла самообладание. Но практически осуществить переворот было бы очень и очень непросто. Лондон не был «абсолютной» столицей наподобие Парижа; существовало несколько рычагов власти, за которые можно было ухватиться, – лондонские радикалы должны мобилизовать их еп masse (в целом). Лондон не сдвинул с места провинцию. Парламентская оппозиция отрицала и осуждала насильственные действия. Министерство внутренних дел, возглавляемое жестоким и решительным виконтом Сидмутом, и его представители на местах сумели подавить сопротивление, но дорогой ценой. Противостояние достигло высшей точки 16 августа 1819 г. в Манчестере, когда местный магистрат приказал арестовать ораторов мощной, но мирной демонстрации сторонников реформ на поле Св.Петра. Солдаты напали на собравшихся, и в итоге одиннадцать человек было убито. Событие получило название «Питерлоо». Весь последующий год был отмечен вспышками насилия, спровоцированными как радикальными элементами, жаждущими мести, так и правительственными агентами, внедренными в реформистское движение. Достаточно вспомнить восстание ткачей в Шотландии и «заговор Кейто-стрит» с целью убийства членов кабинета министров в Лондоне. Власти ответили круто, жестоко и эффективно – виселицами и ссылкой в колонии, однако подобные меры со временем только усилили сопротивление борцов за конституционные права и дискредитировали правящую верхушку. Между тем правительство с подозрением наблюдало за не сдерживаемой никакими рамками беспредельной индустриализацией. Двигаясь по пути к свободной торговле, периодически сменяемому аппарату управления и к реформе уголовного кодекса, оно все еще ориентировалось на интересы землевладельцев и боялось новых выступлений рабочего класса. Сэр Вальтер Скотт, поддерживавший правительство, очень сожалел о том, что промышленность передислоцировалась в города; по его мнению, в сельских мануфактурах хозяин «оказывал благотворное влияние на людей, зависящих от него самого и от его благополучия». Вероятно, он при этом думал о Роберте Оуэне и его фабрике в Нью-Ланарке. Пропагандируя идею самоуправляемой индустриальной общины, Оуэн рассчитывал ограничить промышленную экспансию и вновь сделать сельское хозяйство главным работодателем. Его «новый нравственный мир» прекрасно сочетался с представлениями о влиянии, оказываемом на человека социальным строем и утопическими взглядами на способ решения назревших в обществе проблем, получивших распространение после войны. Сильнейший яд – в венке лавровом,
Мастеровые не обязательно должны понимать космологию гениального мастера Уильяма Блейка, чтобы по достоинству оценить смысл этого его послания. Многим будущее должно было казаться апокалипсическим, как на гигантских, но необыкновенно детализированных и поучительных живописных полотнах Джона Мартина, которые были в моде в виде гравюр в середине 20-х годов XIX столетия. Вклад вигов в политические баталии был довольно весомым. Попытка Георга IV добиться в 1820 г. развода вылилась в открытое перемывание в судах грязного белья королевской семьи. Генри Бругэм, один из ведущих авторов «Эдинбург ревю», выступил под аплодисменты публики против короля и министров в защиту королевы Каролины, не очень-то подходящей фигуры на роль мученицы. Затем в августе 1822 г. покончил с собой Кэслри, министр иностранных дел, сумевший дистанцировать Британию от консервативных сил, представленных на Миттерниховых конгрессах. Теперь путь был свободен, и более либеральное крыло правительства Ливерпула могло проявить себя. Джордж Каннинг, преемник Кэслри на посту министра иностранных дел, выступил, совместно с американским президентом Монро, в 1823 г. гарантом независимости вновь образованных республик Южной Америки и одновременно обеспечил Британии привилегированный доступ на новый гигантский рынок. Два года спустя было отменено антипрофсоюзное законодательство, а в 1826 г. положен конец «управлению» Шотландии семейством Дандас. Правительство герцога Веллингтона приняло в 1829 г. закон, освобождающий католиков от ограничения политических и гражданских прав. Оно было вынуждено учитывать преобладавшее мнение ирландского общества и угрозу национального восстания, когда католику Даниелу О’Коннелу, избранному депутатом от графства Клэр, в 1828 г. было отказано в праве занять свое место в Парламенте из-за того, что он католик. Итак, оставалось лишь осуществить парламентскую реформу, однако в данном случае вопрос уже касался непосредственно политической роли обеих ведущих партий. Если давление со стороны профсоюзов, шотландских и ирландских организаций можно было смягчить с помощью законодательных уступок, то предполагаемая реформа означала бы победу вигов, усиление их влияния в этом представительном органе со всеми вытекающими отсюда преимуществами. В 1828 г. Веллингтон под давлением своих «крайних» (Ultras) решительно воспротивился переменам, но на следующий год они уже покинули герцога из протеста против принятия закона об эмансипации католиков. Между тем недовольство в стране нарастало. Ситуация обострилась до предела после того, как руководители вигов граф Грей и лорд Джон Рассел победили на выборах, состоявшихся в связи со смертью Георга IV в 1830 г. Когда Палата лордов отклонила законопроект о реформе, хорошо организованные «политические союзы» провели в ряде городов массовые митинги; взбунтовавшиеся толпы атаковали Ноттингем-Касл и дворец епископа в Бристоле, где собирались лорды – противники реформы. В Мертире за мятежом последовала казнь лидера рабочих Дика Пендерина. В апреле 1832 г. лорды в конце концов дали свое согласие (с перевесом в девять голосов), к великому облегчению правительства Грея, которое иначе показало бы себя довольно консервативным, особенно при подавлении волнений среди сельскохозяйственных рабочих (так называемого мятежа «капитана Свинга») на юге Англии. Овладение реформойНесмотря на почти революционный характер агитации за реформу, принятый в 1832 г. закон не внес каких-либо существенных перемен, разве что создал условия для включения в представительные органы потенциально склонных к конфликтам мощных промышленных и коммерческих группировок. Если электорат Шотландии и увеличился с 4579 до 64447 человек (на 1407%), то в Ирландии он возрос всего на 21%; 41 большой город, в том числе Манчестер, Брэдфор и Бирмингем, впервые обрели своих представителей в Парламенте, но среднее количество городских избирателей на одного депутата – а именно они выбирали почти половину депутатов (324 из 658) – оставалось ниже 900 человек. По-прежнему 349 избирателей Бекингема выбирали столько же депутатов, сколько и 4172 жителя города Лидса, обладавших правом голоса. Население Англии (54% населения Британии) продолжало формировать 71% Палаты общин. Как и раньше, действовал принцип «виртуального представления» групповых, а не общенародных интересов, и в Парламенте на протяжении почти полувека опять доминировали землевладельцы. Некоторые консерваторы серьезно опасались наступления последователей утилитариста Бентама на аристократию и Церковь. Но в Парламенте было мало истинных доктринеров, а реформистский пыл вигов быстро улетучился. Филантропы получили свое в 1833 г. с отменой рабства на территории Британской империи, с введением ограничений на использование детского труда на текстильных фабриках, а также фабричной инспекции. Закон о бедных, принятый в 1834 г., который его автор Эдвин Чедвик считал основой для последовательного экономического воссоздания английского местного самоуправления, не облегчил положения и был ненавистен простому люду, так же как и мрачные работные дома или «бастилии». «Таймс» тоже резко критиковала новый Закон о бедных, возможно чувствуя, что сторонники философского радикализма зашли слишком далеко. Год 1834-й оказался сопряжен со многими трудностями. Слов нет, Ирландия сохраняла на этот раз спокойствие, и виги искали взаимопонимания с О’Коннелом, которое длилось до конца десятилетия, но «альтернативное общество» все еще формирующегося рабочего класса достигло пика своей активности. Усиление влияния профсоюзов под руководством таких людей, как Джон Догерти, критика со страниц различных «нештемпелеванных» газет, недовольство радикалов реформой избирательной системы, возвращение в политику Роберта Оуэна – все это вместе взятое дало толчок проекту по созданию Большого национального объединенного профсоюза, который, по замыслу его авторов, должен был разрушить капиталистическую систему в ходе «больших национальных каникул» или всеобщей забастовки. Затем общество реорганизуют на кооперативной основе, а базой для оценок в денежном выражении послужат часы полезного труда. В марте правительство предприняло контратаку, избрав в качестве жертв шестерых рабочих Дорсета, так называемых мучеников Толпадла. За короткий период Большой профсоюз провел слишком много некоординированных забастовок и демонстраций протеста. С выходом из него Оуэна в августе профсоюз прекратил свое существование. Шестнадцатого октября сгорело здание Парламента. Если бы это произошло шестью месяцами раньше, пожар, быть может, показался бы более чем символичным. Одним из реальных достижений вигов была реформа местного самоуправления. В 1833 г. городские советы в Шотландии стали избирать налогоплательщики, два года спустя реформа коснулась и английских городов. В крупных городах виги и радикалы пожинали богатые плоды своих усилий. Но в правительстве наблюдался глубокий раскол. В ноябре 1834 г. к власти пришли тори во главе с Пилем, которые обещали работать в рамках проводимых реформ. В апреле 1835 г. виги вернулись, однако уже под руководством крайне консервативного Мельбурна. Когда в 1841 г. их вновь сменили тори, Пиль уже более глубоко проникся идеей постепенных преобразований, которую с ним разделял серьезно мыслящий Альберт из Саксен-Кобург-Готской династии, супруг молодой королевы. Пилю, между прочим, опасность угрожала с двух сторон. Промышленники, встревоженные сокращением прибыли, требовали уменьшения заработной платы и считали, что это вполне можно сделать, если снизить цены на хлеб, который являлся главным продуктом ежедневного рациона трудового люда (в неделю каждый съедал около пяти фунтов). Добиться заметного снижения цены было возможно только при свободном импорте зерна или, иначе говоря, лишь отменив Хлебный закон 1815 г. Радикалы, раздосадованные отступничеством вигов, перехватили инициативу. Ведущими фигурами в Лиге борьбы против хлебного закона, образованной в октябре 1838 г. в Манчестере стали Ричард Кобден, не очень преуспевающий торговец хлопком с заокеанскими интересами, Джон Брайт, квакер и владелец ковровой фабрики в Рочдейле, и Джеймс Уилсон, шотландский журналист, основатель журнала «Экономист» (1843). Лига борьбы против хлебного закона представляла – и частично сама создала – индивидуалистически настроенный средний класс, наделенный деловой хваткой, который немцы назвали (и теперь еще называют) «манчестерским». С помощью петиций, демонстраций, путем мобилизации диссентеров, умелого использования новой почтовой услуги, стоимостью 1 пенни, Лига возбудила у населения неприязнь к аристократии и лично к Пилю. В вопросах, касающихся государственных финансов, Пиль фактически соблюдал большинство заповедей политической экономии. Таможенные пошлины были резко снижены, Английский банк реорганизован, содействие железнодорожной компании позволило ей иметь независимого руководителя (хотя Уильям Гладстон, возглавлявший тогда министерство торговли, настаивал на полной национализации). Участники Лиги действовали с неистовством отчаявшихся. Они хорошо понимали, что их благополучие тесно связано с постоянно растущим мятежным духом среди наемных работников. Довольно необычный совладелец бумагопрядильной фабрики в Манчестере, молодой немец Фридрих Энгельс, воочию наблюдая, как волны недовольства одна за другой стучали в фабричные стены, предсказывал, что, как только рабочие решат больше не быть товаром, который покупают и продают, вся нынешняя политическая экономия прекратит свое существование. Толчок к подобному развитию событий, по мнению Энгельса, мог бы дать любой особенно глубокий экономический кризис, а политическое оформление рабочего движения нашло выражение в чартизме. «Политика меня не интересует, но я чартист», – заявил в 1848 г. один из лондонских уборщиков мусора Генри Мейхью, первому исследователю социальных проблем. «Народная хартия» неоднократно вносила в Парламент петиции с требованием осуществления шести пунктов: всеобщего избирательного права (для мужчин), равных избирательный округов, тайного голосования, отмены имущественного ценза для кандидатов в депутаты Парламента, зарплаты депутатам и их ежегодного переизбрания. Эти требования воздействовали на массы с такой же силой, как Французская революция и кампания Дэниела О’Коннела в Ирландии. Однако единство в этом необычайно сложном и в высшей степени локализованном движении было лишь поверхностным и эпизодическим. Внешне оно выглядело сверхдемократическим, но только для мужчин – предложение об избирательном праве для женщин потерпело фиаско. Как организация национального масштаба, чартизм просуществовал недолго, с 1838 по 1842 г., но его филиалы продолжали проявлять активность на региональном уровне под влиянием местных экономических неурядиц, политических традиций и личных качеств руководителей. Их деление на сторонников «физического» и «морального» воздействия дополнялось по отношению к сформировавшимся партиям, к вопросу об употреблении алкоголя, к проблемам Ирландии, к частной собственности и образованию. В Шотландии и Центральной Англии лидерами были представители малого торгового бизнеса и квалифицированные специалисты. В Йоркшире, с его высоким уровнем безработицы и негативным воздействием нового Закона о бедных, вожаки были настроены чрезвычайно воинственно, однако участвовали в проводимой тори кампании в пользу фабричной реформы. «Приграничные города» промышленного Уэльса пережили множество «коллективных договоров посредством бунтов», а потому неудивительно, что колоссальная демонстрация протеста, состоявшаяся 4 ноября 1839 г. в Ньюпорте, закончилась кровавым столкновением с войсками. Было убито 14 человек, ряд участников шествия суд приговорил к ссылке на каторжные работы в Тасманию, но не к повешению. Пиль был гуманнее и тактичнее, чем Мельбурн в 1831 г. или Ливерпул в 1819-м, и его политика увенчалась успехом. Экономический подъем 1843-1844 гг. лишил чартизм жизненных сил. Его последнее оживление в 1848 г. отражало скорее агонию Ирландии, чем честолюбивые устремления английских ремесленников, и движение это уже не было монолитным, имело ярко выраженную ирландскую окраску и находилось как бы в стадии экспериментального поиска новых организационных форм. Фергюс О’Коннор выступил с планом учреждения новых сельских поселений, опять возродились идеи Оуэна и социалистов вместе с обветшавшими лозунгами европейских революционеров, многие из которых эмигрировали в Британию. Какой бы привлекательной ни казалось интеллектуальная дружба Джулиана Гарни и Эрнста Джонса с Марксом и Энгельсом, чартизм уже сошел с политической сцены. Чартисты со стажем продолжали проявлять активность по таким отдельным проблемам, как трезвый образ жизни, создание трудовых кооперативов (рочдейлский магазин «Пионер» имеет чартистские корни) и профессиональных союзов. Некоторые из них уехали за рубеж, но многие сделались весьма респектабельными участниками викторианских местных органов самоуправления и новой провинциальной печати. «Если только не Бог строит города…»В 1832 г. от эпидемии холеры, завезенной в Европу с Ближнего Востока, умерло около 31 тыс. британцев; в 1833 г. Парламент проголосовал за выделение 30 тыс. фунтов стерлингов на нужды начальной школы, а Джон Кибл проповедовал в Оксфорде на тему о «национальном вероотступничестве». Все эти события совершенно случайно совпали с проводимой в стране политической реформой (Парламент выделял больше денег на содержание конюшен Виндзорского замка, чем на образование), но они в значительной мере определили направление деятельности государства и способы обоснования ранними викторианцами своей социальной позиции. Холера усугубила проблему чересчур быстрой урбанизации, хотя и в сельской местности она проявляла себя не менее беспощадно. Новые городские кварталы были невелики по площади, но чрезвычайно плотно застроены, густо заселены, и практически все жители добирались до места работы пешком. Использование городской земли соответствовало экономическому статусу жителей. Незначительная кучка собственников – менее 5% общей численности населения в хлопчатобумажных центрах – часто владели 50% городских земельных участков. Люди селились на территориях, свободных от фабрик и заводов, дорог, каналов, а позднее и железных дорог. Результаты, как и следовало ожидать, оказались плачевными: города Британии XIX в. были окутаны плотным облаком дыма и смрада, за проживание в них рабочим и их семьям приходилось платить высокую цену, если принять во внимание размеры платы за жилье и пагубные последствия для здоровья. За более сносное жилье приходилось выкладывать четверть недельного заработка квалифицированного рабочего, и лишь немногие могли себе это позволить. В подобной ситуации не только разрастались трущобы в старой, центральной части городов (притоны и ночлежки в Лондоне, подвальные жилища в Ливерпуле и Манчестере, «доходные дома» в Шотландии и «китайский квартал» в Мертир-Тидвиле), но земельные магнаты и строительные спекулянты придумали новый тип жилья – сверхтесные («спина к спине») квартиры в Йоркшире: крохотная комната с кухонной нишей или однокомнатный домик. К 1870 г. в таких условиях проживало 70% семей Глазго. Если с жильем было плохо, то с санитарией и гигиеной дело обстояло еще хуже. Более состоятельные граждане могли сложиться и построить водопровод и канализационную систему, осветить свои улицы, организовать охрану, однако все это лишь ухудшало положение беднейших слоев населения, ибо зачастую содержимое уборных богатых кварталов сбрасывали в водоем, откуда рабочие районы снабжались питьевой водой. Местью рабочего класса были эпидемии. Окруженные со всех сторон массой бедных слуг и мастеровых, на которых обычно не обращали внимания, богачи внезапно сделались чрезвычайно уязвимыми. У А.К.Тейта, будущего архиепископа Кентерберийского, в 1856 г. из семи детей пятеро умерли от скарлатины. В 1831 г. правительство обязало местных аристократов участвовать в работе временных советов по вопросам здравоохранения, занятых борьбой с холерой. В 1840 г. Эдвин Чедвик, обеспокоенный растущим числом семей, впавших в нищету из-за болезни или потери кормильца, руководил специальной комиссией, исследовавшей санитарные условия жизни трудового населения. Ее отчет был опубликован в 1842 г. Последовавшая за этим агитация в обществе, не говоря уже об опасности новой вспышки эпидемии холеры, вынудили правительство разрешить в 1848 г. муниципальным властям учреждать местные советы по проблемам охраны здоровья населения, подчиненные упомянутой выше комиссии, в которую входил и сам Чедвик. Помимо последователей Бентама были привлечены и другие силы – некоторые чартисты и радикалы, а также, в большом числе, представители партии тори, медики и члены различных благотворительных организаций. К типичным представителям данного движения можно было бы отнести лорда Эшли. Будущий граф Шефтсбери и приверженец Низкой церкви из числа тори – Маколей определил его стиль как «вопль Экзетер-Холла» – обладал умением Уилберфорса манипулировать общественным мнением, обеспечивающим надежный повод для государственного вмешательства. В 40-х и 50-х годах XIX столетия это умение оказалось как нельзя кстати, когда возникла необходимость облегчить участь шахтерам, фабричным рабочим, бедствующим эмигрантам и обитателям городских трущоб. Некоторые доказывали, что административная реформа происходила сама по себе, в силу внутренней динамики, независимо от действий Парламента и идеологических соображений. «Торийская интерпретация истории» (так иногда не совсем справедливо называли этот подход) противопоставляла влияние на ход преобразований со стороны чиновников – «людей, находившихся непосредственно на местах», – и энтузиастов, подобных Эшли, вырабатывавших собственные законы при безразличном отношении Парламента к социальным условиям. Но это далеко не полное объяснение процесса реформирования. Нормы поведения государственных служащих варьировались от департамента к департаменту и проявлялись, кроме того, сугубо индивидуально. Одни были преданы делу вплоть до самопожертвования, другие, поступившие на должность по протекции, выполняли свои обязанности с прохладцей. Энтони Троллоп, один из руководителей почтового управления, по-прежнему находил время дважды в неделю выезжать на охоту и писать романы. В одном из них («Три клерка»), опубликованном в 1857 г., он дает красочную картину провинциальной государственной службы и поведения ее реформаторов. В этот золотой век «местного самоуправления» и возрастания профессионального уровня главными инициаторами перемен были крупные города и новое поколение врачей, обучавшихся в основном в Шотландии, которые совершили переход от уровня примитивного хирурга-фармацевта до официального независимого эксперта по медицинским вопросам. Первый начальник медицинско-санитарной службы здравоохранения был назначен в Ливерпуле в 1847 г. Год спустя Лондонский Сити, «квадратная миля» богачей, утвердил на аналогичном посту энергичного доктора Джона Саймона. К 1854 г. должность санитарного врача стала обязательной для всех городских поселений. Наличие службы здравоохранения явилось важным фактором, побуждавшим муниципальные власти не только сооружать водопроводные и канализационные системы, ликвидировать трущобы, но и соблюдать предписания, касавшиеся строительства жилья и жилищных санитарных норм. Новое индустриальное общество остро поставило вопрос об организации образовательного процесса. Мнения на этот вопрос разделились. Как полагала евангелистка Ханна Мор, для насаждения религии и сохранения порядка в обществе детей следует обучать чтению, но не письму. Адам Смит, с другой стороны, опасался умственной деградации рабочего класса из-за узкой специализации наемного труда, настаивал на передаче в Англии дела образования в ведение государства, как это было сделано в Шотландии после кальвинистской реформации церкви (Kirk). До 1800 г. там существовали школы грамматики, в основном дореформаторские, после – независимые школы и приюты для детей бедняков, которые очень различались по качеству обучения и не могли охватить всю подрастающую молодежь, особенно в новых городских кварталах, или благотворно влиять на их поведение. Однако на рубеже XVIII-XIX вв. общество, включая и короля Георга III, начало смотреть на образование как на средство профилактики против революции. Этому способствовало внедрение новых, более дешевых и эффективных методов обучения. «Наставническая» система Ланкастера – Белла, при которой старшие ученики сначала учат урок сами и затем наставляют младших, побудила к учреждению в 1808 г. Британско-зарубежного школьного общества, а в 1811 г. – Национального общества. Эти две попытки выйти на общегосударственный уровень совпали с усилением вражды между первоначальными спонсорами идеи – религиозными диссентерами и официальной Церковью. Эта вражда почти столетие превалировала над вопросами качества образования. Религиозный антагонизм имел место и при реформировании в англиканском духе системы обучения в частных учебных заведениях для мальчиков, хотя проявлялся не столь интенсивно. Плачевное положение со школами в последние годы XVIII в. начало выправляться еще до того, как радикальный сторонник Широкой церкви Томас Арнолд начал карьеру в городе Регби в 1829 г. Его реформы фактически соответствовали консервативному политическому урегулированию 1832 г., но сохранили свое воздействие намного дольше. «Классическое образование» (латинский и греческий языки) преобладало для тех, кто собирался поступать в университет; оно перестало быть лишенным практического смысла, своего рода ритуалом для подрастающих аристократов, а превратилось в стимул соревновательности для молодых людей среднего сословия, желающих стать стипендиатами колледжа или заняться исследовательской работой в университетах Оксфорда и Кембриджа. Они имели цель добиться субсидированного вхождения в профессиональную жизнь, но при этом им выпало выполнить еще одну, более важную функцию: приобщить юношей из коммерческих слоев населения к обновленной разновидности региональной аристократии. К моменту смерти Арнолда в 1842 г. его метод переняли другие частные средние учебные заведения; этому процессу способствовали рост сети железных дорог и необычайно популярная книга Томаса Хьюза «Школьные годы Тома Брауна» (1857). Модернизация школьного образования послужила примером для последующего поколения реформаторов, многие из которых уже обучались по новому методу. В отличие от утилитаристов у них не было всеобъемлющей, четко разработанной программы, они скорее стремились поставить государственные институты, находящиеся под влиянием аристократии и духовенства, на службу всему обществу. Подобная идея «национализации» и вытекающего из нее «включения» рабочего класса в «политическое сообщество» была высказана в 1848 г. христианскими социалистами и последователями Ф.Д.Мориса (в том числе и Томом Хьюзом), пытавшимися сделать Англиканскую церковь арбитром между трудом и капиталом. Они не были одиноки. Уильям Эдвард Форстер, молодой, радикально настроенный фабрикант, занимавшийся производством сукна, из Бредфорда, бывший квакер, писал: «Пока не будут сделаны некоторые уступки народным массам, пока все зажиточные слои общества не станут серьезно заботиться о том, чтобы их досыта накормить, волнения в стране неизбежны; по-моему, наиболее действенный способ их предотвращения – сочувственное к трудовому народу отношение среднего сословия, располагающего достаточной силой, чтобы противостоять несправедливости и помогать реализовывать разумные требования». Жена Форстера приходилась дочерью Арнолду из Регби и сестрой Мэтью Арнолду, поэту и школьному инспектору. «Интеллектуальная аристократия», высокомыслящая и уверенно реформаторская, уже оставляла почву евангелической религии и переключалась на политические акции. Школьный инспектор Арнолд и большинство политиков принадлежали к так называемой Широкой церкви, т.е. являлись носителями либеральных традиций Англиканской церкви, которая рассматривала себя в качестве партнера государства и считала, что в этих отношениях теологическая доктрина имеет подчиненный характер. Евангелисты особо выделяли религиозно-философские соображения, но их наивная богословская система постепенно разрушалась под воздействием непрерывных акций либералов, которые достигли своего апогея с принятием в 1832 г. парламентской реформы. Священнослужители боялись, что за этим последует всплеск утилитаристских и, следовательно, атеистических настроений. В одной из проповедей в Оксфорде Джон Кибл объявил о духовном противодействии, основанном на апостолических традициях Англиканской церкви. «Трактарианцы», или Оксфордское движение, не противостояли либерализму в области социальных реформ или обрядов «Высокой церкви», – они просто ссылались на давние англиканские обычаи. Через двенадцать лет, в 1845 г., Движение раскололось – отчасти из-за преследования лиц англиканского вероисповедания, тяготевших к евангелизму, отчасти по убеждению, когда некоторые руководители, включая и Джона Генри Ньюмана, решили, что у них нет никаких разногласий с Римом, и «вышли». Вопреки мрачным прогнозам противников Оксфордское движение послужило укреплению позиций Англиканской церкви благодаря энтузиазму таких преданных мирян, как У.Ю.Гладстон, и оказало влияние на религиозное воспитание и архитектуру. Широкая церковь, ориентированная в большей степени на социологический аспект религии, попала в трудное положение, когда выяснилось, что лишь пятая часть англичан посещает ее приходские церкви. Единственная в своем роде перепись верующих, проведенная в 1851 г., показала, что лишь 35% населения Англии бывает на воскресных службах, хотя эта цифра сильно варьирует в зависимости от региона; примерно половина верующих регулярно слушала проповеди священников-диссентеров. В 1848 г. христианские социалисты, приверженцы Широкой церкви, энергично стремились наладить контакт с наемными работниками, но на каждого вновь обращенного усилиями их группового лидера Ф.Д.Мориса приходилось не менее десяти человек, попавших под влияние Чарлза Кингсли, и еще больше тех, кто помогал Дж.М.Ладлоу в профсоюзной работе и Е.В.Нилу в зарождающемся кооперативном движении. Англиканская церковь располагала по крайней мере богатой традицией, деньгами и широтой маневра, чего не было у нонконформистов. Изолированные друг от друга и обычно воспринимаемые с подозрением правящими кругами, их руководители, и в первую очередь Джобес Бантинг из Методистской Конференции, пытались объединиться на базе консерватизма. Политический радикализм являлся обычно отличительной чертой диссентеров в провинции и среди шахтеров, а также среди городской религиозной элиты – унитариев и квакеров. Особенно заметные перемены произошли в Южном Уэльсе. Лишь в 50-х годах XIX в. после успешной кампании против Хлебного закона, диссентеры начинают показывать свои мускулы: блокируются с Либеральной партией, требуют повышения своего гражданского статуса и – в соответствии с программой «Общества освобождения» – роспуска официальной Церкви. Организованные инакомыслящие стали играть в либеральном движении главную и довольно беспокойную институциональную роль, но для самого движения это приобретение оказалось весьма сомнительным и разорительным, о чем свидетельствовал непрекращавшийся отток состоятельных религиозных нонконформистов, переходивших в лоно Англиканской церкви. В Шотландии на протяжении десяти лет (1833-1843) шли горячие споры относительно патроната, закончившиеся «Расколом» (Disruption») шотландской церкви и созданием новой независимой «Свободной церкви». Роль Церкви в мирских делах стала быстро снижаться (когда в 1845 г. был утвержден закон о бедных), однако страсти относительно церковной политики продолжали кипеть в шотландском среднем сословии еще до конца столетия. «Колокола перемен»Сороковые годы XIX столетия обернулись десятилетним кризисом даже по меркам классической политической экономии. Ведущая роль в Британии по-прежнему принадлежала текстильной промышленности, но рынок сбыта для товаров был ограниченным и испытывал растущую американскую и европейскую конкуренцию. В индустрии повсюду наблюдалась чрезмерная капитализация, внедрение очередной технической новинки сокращало прибыль на капитал, и каждый последующий экономический спад производства оказывался глубже и длительнее предшествующего. Реальная заработная плата увеличивалась слишком медленно, чтобы успешно нейтрализовать негативные последствия сокращения ручного труда и высокой стоимости городской жизни. Для Карла Маркса, следившего за событиями в Британии по письмам своего друга-фабриканта Фридриха Энгельса, все эти явления были составными частями одной общей картины. Капитализм, по его представлениям, обречен погибнуть от собственного перепроизводства; в ходе следующей экономической депрессии, уверял он, низкооплачиваемые трудящиеся дружно поднимутся против капитализма. Здесь он перекликался с мыслями Шелли, который выразил их в стихотворной форме. Восстаньте ото сна, как львы,
События 40-х годов как будто подвели Ирландию вплотную к революции. Катастрофические неурожаи картофеля в 1845-84бгг. и в 1848 г. подорвали основу роста населения страны. В 1845-1850 гг. от голода умерли около 1 млн человек, примерно 2 миллиона эмигрировали. Бедные ирландские иммигранты, готовые работать за плату намного ниже принятой в Англии, представляли собой взрывоопасный материал. В своей книге «Чартизм» (1839) Карлейль писал: «Всякий, кто снимет статистические очки, увидит… что жизненные условия низшей категории английских рабочих все больше и больше напоминают положение ирландцев, с которыми они конкурируют во всех сферах…» Сдерживающим фактором служило бурное индустриальное развитие, вбиравшее любые излишки рабочей силы и капитала и преобразовывавшее их в новую, более диверсифицированную экономику. Главным – и психологически наиболее впечатляющим – инструментом этого развития была железная дорога. Примитивные варианты механических средств передвижения использовались уже в начале XVII столетия для доставки угля от места добычи к морским или речным причалам. К 1800 г. в стране существовало, вероятно, не менее 200 миль специальных транспортных путей на конной, построенных по различным проектам. На первых порах направляющие колеи изготовлялись из дерева, затем проложили металлические рельсы: поначалу (с 70-х годов XVIII в.) из чугуна, затем (с 90-х годов XVIII в.) из стали, но без так называемой подошвы. Механизмы на паровой тяге были представлены в двух вариантах: стационарные двигатели низкого давления тянули вагонетки вверх по наклонной поверхности, «локомотивы» высокого давления сами катились по рельсам. В 1804 г. свою модификацию паровоза, двигающегося по рельсам, продемонстрировал в Уэльсе изобретатель Ричард Тревитик, и вскоре его стали широко применять на северных угольных разработках, где объемы добычи угля в 1800-1825 гг. удвоились. Там работал и Джордж Стефенсон, создатель парового железнодорожного транспорта. К 1830 г. по всей Великобритании, с санкции Парламента, было построено уже 375 миль железных дорог. Коммерческий ажиотаж середины 20-х годов XIX в., поддерживаемый Ливерпульской и Манчестерской железными дорогами, дал мощный толчок дальнейшему развитию. За десятилетие, начиная с 20-х годов, хлопчатобумажная индустрия почти вдвое увеличила выпуск своей продукции, а население Манчестера выросло на 47%. Снабжение всем необходимым как фабрики, так и возросшего числа жителей сдерживалось монополистической компанией «Бриджуотер канал»; нужен был крупный и сильный конкурент. Предъявляемые к нему требования почти превосходили существовавшие тогда технические возможности. В конце концов – не без давления со стороны соперников – Стефенсону удалось создать в 1830 г. достаточно эффективную модель паровоза. Однако дистанция между получившей первый приз так называемой «Ракетой» и внедренным в промышленное производство локомотивом «Патенти» (1834) была столь же велика, как между той же «Ракетой» и ее довольно неуклюжим, хотя и надежным предшественником «Локомоушн». Принципиальная конструкция паровоза затем практически не менялась на протяжении полувека. В 30-х годах на развитие железных дорог оказал влияние еще один спекулятивный бум. К 1840 г. около 2400 миль железнодорожных линий связывали Лондон с Бирмингемом, Манчестером и Брайтоном. Некоторые из линий процветали, другие – обремененные чрезмерной капитализацией и различными судебными тяжбами – находились в плачевном состоянии. В дни возникновения первых акционерных компаний действовало совсем немного правил, и репутация предпринимателей, сумевших обменять «бумажки на золото», была очень высокой, как, например, у Джорджа Хадсона, «железнодорожного короля», контролировавшего к 1845 г. треть всей сети железных дорог. Хадсон обеспечил внушительную прибыль, выплачивая дивиденды от имени функционирующих железнодорожных линий за счет капитала, собранного на строительство новых дорог. Когда ажиотаж 40-х годов, который он помогал поддерживать, наконец прошел, Хадсона в 1848 г. разоблачили, и он бежал за границу. Но прежде чем он это сделал, было построено более 8 тыс. миль железных дорог, которые протянулись от Абердина до Плимута. Славная эпоха начала железных дорог создала и своих героев; к ним принадлежали: самоучка Стефенсон и его выдающийся сын Роберт, Джозеф Лок, Даниел Гуч и человек энциклопедических знаний по имени Изамбар Кингдом Брунел, чьи гигантские проекты – Великая западная железная дорога (с шириной колеи в 7 футов), первый железный пароход «Великобритания» и громадный «Грейт истерн» (водоизмещением 18 тыс. т) – завораживали широкую публику и приводили в ужас его несчастных финансистов. Это к ним относился вопрос Г.К.Честертона: «Что за племя поэтов стреляло из таких циклопических луков по звездам?» Эти люди – Карлейль называл их «капитанами индустрии» – были более привлекательны, как предприниматели, чем хлопчатобумажные фабриканты, и Сэмюэл Смайлс считал их образцом для тех, кто стремится добиться успеха собственными силами. Новая транспортная система была создана за менее чем несколько десятков лет, причем без всяких современных технических средств. Землекопы и чернорабочие, которых только в 1848 г. насчитывалось около 250 тыс., снабжаемые пивом и говядиной, проделали колоссальную работу, переместив горы земли, – непременный этап строительства британских железных дорог раннего периода. В 30-х годы XIX в. типичный британский рабочий представлялся в виде несчастного фабричного невольника или голодающего ткача. В 50-х это был уже мускулистый трудящийся, руками которого за полгода поднялся ввысь знаменитый Хрустальный дворец и который, доставленный морским транспортом в Крым, помог армейским частям проложить там железную дорогу и возвести военные лагеря. Нужно, однако, отметить, что железнодорожное строительство стоило огромных затрат: лишь в одном 1849 году сюда было инвестировано 224,6 млн фунтов стерлингов. Но выручка в том же году еще оставалась на низком уровне и составила 11,4 млн фунтов. Правда, в 1859 г. она поднялась до 24,4 млн фунтов, тем не менее железные дороги всегда оставались умеренным, хотя и надежным объектом вложения капитала; но были и компании, не дотягивавшие даже до такого уровня. До 1852 г. они получали больше прибыли от пассажирских, а не от грузовых перевозок. Поэтому были предприняты усилия по устранению этого дисбаланса путем систематической скупки конкурирующих компаний – владельцы каналов, будучи избалованы сверхприбылями, опасались резкого снижения доходов в результате соперничества. К середине 50-х годов стратегические водные магистрали оказались в руках железнодорожных компаний, и грузовые потоки пошли в основном сухопутными путями. К тому моменту сговор капиталистов наиболее динамично развивающихся индустриальных центров (о чем предостерегал Адам Смит) стал фактом. Политика и дипломатия: годы правления ПальмерстонаБыстрое развитие сети железных дорог совпало по времени с драматическими переменами в политике. Урожаи 1842-1844 гг. оказались очень хорошими, зерна было в избытке, и цены на него держались на низком уровне. Затем непогода уничтожила посевы 1845 г., а болезни нанесли серьезный урон ирландскому картофелю. Казалось, что предсказания Лиги борьбы против хлебного закона сбываются. Пиль попытался поставить в правительстве вопрос о введении свободной торговли зерном, однако потерпел неудачу и подал в отставку, но вернулся, когда вигам не удалось сформировать кабинет министров. В феврале 1846 г. он предложил пакет мер, предусматривающих отмену на три года импортных пошлин на зерно. Пиль думал, что заручился – или надеялся заручиться – поддержкой большинства своих сторонников путем выделения субсидий для финансирования местной полиции и обеспечения выполнения Закона о бедных. Однако его партия переживала глубокий раскол, и лишь незначительное меньшинство поддержало Пиля, когда он был подвергнут резкой критике за использование силы для усмирения ирландцев в мае. На последовавших выборах на пост премьер-министра вернулся Рассел, сформировавший кабинет вигов, и с данного момента виги, а позднее либералы господствовали на политической сцене Британии. Сильно ослабленная переходом влиятельных приверженцев Пиля – включая Гладстона, Абердина и сэра Джеймса Грэхема, – в лагерь вигов, партия тори продолжала действовать под руководством бывших вигов – лорда Дерби и лорда Бентинка, а также экзотического экс-радикала Бенджамина Дизраэли. Партия тори продолжала быть достаточно сплоченной, но в течение последующих тридцати лет находилась у власти лишь пять лет. Партийная активность концентрировалась в двух новых клубах Сент-Джеймса – «Реформ» и «Карлтон» (тори), основанных в 1832 г., но сформулировать политику, охватывающую широкий спектр интересов – от левых до правых – означало бы применить критерии более поздней эпохи. Национальных партийных организаций, как и их программ, еще не было. Публичные выступления были редкостью. Партийные лидеры – главным образом вельможи из вигов – обычно накануне выборов, проходивших каждые семь лет, делали туманные намеки, касающиеся политики, ближайшим друзьям или родственникам. Предлагаемые кандидаты выезжали в свои избирательные округа, выпускали обращения, вербовали сторонников среди местной влиятельной элиты и соглашались выставлять себя на выборы, если только были уверены в солидной поддержке. Огромные расходы делали выборы с участием соперничающих кандидатов скорее исключением, чем правилом. Территориальная аристократия чувствовала себя безраздельным хозяином в «карманных местечках». Для какого-нибудь фермера или лавочника проголосовать открыто, скажем, против ставленника местного могущественного клана было равносильно самоубийству. В графствах доминировали большие и богатые семьи. Средние города являлись более открытыми, но обходились недешево: уровень коррупции их выборщиков хорошо описан Диккенсом в «Посмертных записках Пиквикского клуба». Недавно получившие право избирать своих представителей в Парламент, крупные города могли иногда выбирать хотя и бедных, но активных депутатов (например, Маколей от Лидса), однако и там чаще предпочитали местных влиятельных предпринимателей, которые обычно покрывали большую часть расходов на предвыборную кампанию из собственного кармана. Некоторые особенности выборов сохранились до наших дней: Англия, как правило, по-прежнему консервативнее «кельтской окраины». Хотя короткое правление Веллингтона (в 1834 г.) было последним случаем, когда герцог сделался премьер-министром, главной силой в государстве оставалась земельная аристократия, одинаково представленная в обеих партиях – вигов и тори. Многие лица этого сословия оказались причисленными к нему лишь недавно. И Пиль, и Гладстон, окончившие Оксфордский университет с дипломом первой степени по двум специальностям, происходили из семей провинциальных промышленников и торговцев. Особенно стремительным был взлет Бенджамина Дизраэли, искателя приключений и писателя, члена религиозной общины, члены которой только в 1860 г. обрели полные гражданские права. Министры мало уделяли внимания внутренним делам, занимаясь главным образом вопросами внешней политики и военного строительства, на что выделялось не менее одной трети всех бюджетных средств. Между тем с 1815 г. в армии и во флоте никаких существенных изменений не произошло. Военно-морское министерство купило в 1822 г. свой первый пароход – буксир «Манки». В 1828 г. с большой неохотой было приобретено еще несколько подобных судов. По мнению руководителей Адмиралтейства, «использование пара – это смертельный удар по превосходству Империи на море». Потому что расположенные по бокам гребные колеса не оставляют места для мощных бортовых орудий. И верфи в Давенпорте еще в 1848 г. продолжали спускать на воду трехпалубные парусники, хотя успешные испытания гребных винтов на малых судах предрекали скорую кончину парусного флота. Старая армия из 130 тыс. долгослужащих солдат и офицеров – 42% ирландцев и 14% шотландцев, – плохо оплачиваемая и скверно обеспечиваемая всем необходимым, поддерживала мир и спокойствие в Ирландии и обширных колониях. В бесчисленных небольших военных кампаниях армия расширяла сферу влияния и торговли Британской империи в Индии и в Китае («Опиумная война» 1839-1842 гг.), правда, уже в интересах свободных торговцев, а не хиреющих компаний, организованных на основании правительственных хартий. Устранение Великобритании от европейских дел отразилось на ее внешней политике. После разгрома Наполеона консервативные лидеры континентальной Европы, прежде всего русский царь Александр I, попытались создать систему взаимного сотрудничества путем проведения регулярных конгрессов представителей великих держав. Но даже в 1814 г. британские дипломаты предпочитали обеспечивать безопасность традиционными методами сохранения баланса сил, даже если это означало восстановление былой мощи Франции в качестве противовеса России. В 1814-1848 гг. большую часть этого периода существовал невыражаемый открыто, молчаливый англо-французский entente, который лишь в 1830 г. претерпел некоторые потрясения, когда католическая Бельгия отделилась от Голландии и какой-то момент казалось, что она попадет во французскую сферу влияния. Ситуация благополучно разрешилась после официального объявления Бельгией своего нейтралитета и с приходом к власти королевской семьи, имевшей тесные связи с Британией. Все это гарантировалось Лондонским договором (1839), нарушение которого Германией в августе 1914 г. положило конец длительному периоду мира. Другие проблемы, осложнявшие отношения между Британией и Францией, решались труднее, поскольку они были так или иначе связаны с неуклонным ослаблением Оттоманской империи, которую англичане всячески старались сохранить в качестве буферного государства против Австрии и России на Балканах. Главным действующим лицом в этот период был, несомненно, Пальмерстон. Он пришел во внешнюю политику довольно поздно, в 1830 г., в возрасте сорока шести лет, но, обосновавшись в мрачном здании министерства иностранных дел на Уайтхолле, провел там последующие тридцать лет. Интересно, что даже в разгар дипломатической деятельности Пальмерстона число его штатных сотрудников не превышало сорок пять человек. Агрессивный патриот, он отличался выдержкой и хладнокровием и был, в определенных рамках, даже либерален. В 1847 г., однако, самым известным в Европе британским политиком был не Пальмерстон, а Кобден, апостол фритредеров. Его чествовали во всех столицах, и его гостеприимные хозяева были уверены: консервативные монархии обречены и либерализм скоро восторжествует. В начале 1848 г. Маркс и Энгельс написали в Лондоне «Манифест Коммунистической партии», предсказывая от имени небольшой группы немецких социалистов европейскую революцию под руководством пролетариата наиболее развитых капиталистических стран. Двадцать четвертого февраля 1848 г. Париж восстал против короля Луи Филиппа, затем поднялись Берлин, Вена и народы Италии, однако Британия за ними не последовала. Правда, короткая паника все-таки возникла, когда чартисты 14 апреля внесли в Лондон свою великую петицию. Были приведены к присяге 10 тыс. констеблей, лояльность которых не вызывала сомнений. Чартистов вытеснили с городской площади Кеннингтон-коммон, а их петицию о всеобщем избирательном праве (для мужчин) Парламент просто высмеял. Но эти выступления в Европе не были повторением событий 1793 г. Республиканское правительство Парижа, стремившееся сохранить добрососедские отношения с Британией, действовало жестко против собственных радикалов и не пыталось экспортировать революцию. Пальмерстон тоже не хотел изменения баланса сил, но был сторонником конституционных режимов и вывода австрийских войск из Италии. Умеренные идеи не получили распространения, и Британия не могла гарантировать сохранность достигнутого либералами. Поддержка крестьянства, купленная ценой земельной реформы, в сочетании с помощью России, сокрушившей Венгрию и позволившей Австрии действовать в других местах по своему усмотрению, привели «старые режимы» (anciens regimes) снова к власти. Однако теперь Австрия была сильно ослаблена, а Россия заняла в Восточной Европе внушающее опасение господствующее положение. ОбъединениеОтмена Хлебного закона, умелые действия правительства в трудных условиях 1848 г. и быстрое расширение сети железных дорог благоприятно повлияли на развитие экономической ситуации. Дополнительный положительный эффект дал также новый политический консенсус. Притязания аграрного сектора удалось удержать в пределах допустимого; вместе с тем эффективность фермерского хозяйства помогла справиться с иностранной конкуренцией. В то же время английская буржуазия поняла, что ей выгодно сотрудничать со старой элитой в сдерживании промышленных рабочих и пойти последним на некоторые уступки для предотвращения революционного взрыва. В сравнении с текстильной промышленностью железные дороги, пароходные и телеграфные компании казались необыкновенно преуспевающими, притягивали к себе внимание широкой публики и служили хорошей рекламой в пользу индустриализации. Функционально они сводили в единое целое сельское хозяйство, торговлю и промышленность. В 50-х годах XIX в. закон «объединил» рабочий класс или по крайней мере его наиболее квалифицированных представителей. Профессиональные союзы «новой модели» – например, машиностроителей или мебельщиков – требовали уже не твердого государственного вмешательства, а лишь улучшения качества коллективных договоров. И действовали они не с помощью уличных демонстраций, а путем нажима на депутатов Парламента обеих партий. Принятые ими процедуры и символика не хотели иметь ничего общего с клятвами и мистикой старинных квазитайных обществ, новые тред-юнионы постоянно подчеркивали свой вполне легальный статус и всячески отстаивали собственное привилегированное положение верхушки рабочего класса. Экономическая и социальная теории развивались в сторону идеи «объединения». Прежняя классическая политэкономия была и подрывной, и пессимистической. Одно из ее направлений, руководимое Марксом, таковым и осталось. Однако Джон Стюарт Милль в «Системе логики» (1840) и в «Политической экономии» (1848) объединил утилитаризм с реформизмом и симпатией к целям умеренных лидеров рабочего класса. Милль с удивлением обнаружил, что «Система логики» с ее обширными заимствованиями из трудов французских социологов Сен-Симона и Огюста Конта стала настольной книгой в старых университетах, приходивших в себя после потрясений, вызванных Оксфордским движением. Однако сам «святой рационализма», воодушевленный английскими поэтами-романтиками, пошел еще дальше и постарался сделать свой гибрид из утилитаризма, индивидуализма и реформистского «социализма» приемлемым для реформаторов правящей верхушки, которые пропагандировали его в литературных обозрениях, столь популярных в середине XIX в. В глазах кандидатов на политическое объединение «власть закона» не была безусловной. Еще сам А.В.Дайси, применивший это выражение к форме правления XIX столетия, писал в 60-х годах: «Джона Смита как Джона Смита в чем-то ограничить нельзя, но Джона Смита как ремесленника – можно». Однако он считал, что расширение избирательного права устранит со временем это неравенство, что в самом деле и произошло. Так кто же, в конце концов, остался «вне закона»? Ирландцы чувствовали себя глубоко обиженными. «Отвергайте унию», – завещал О’Коннел новому поколению патриотов. В то время как католический средний класс, подобно шотландцам, стремился найти для себя нишу в британском истеблишменте, ирландские националисты под влиянием голода сделались более агрессивными и в будущем могли рассчитывать только на помощь своих соотечественников, эмигрировавших в Америку. Поселенцы в колониях, возможно, гордились тем, что перенесли на новую почву привычные британские институты, но, как хорошо понимали чиновники министерства колоний, в представлениях переселенцев о законности не было место правам коренного населения. Священники Высокой и Низкой церквей были недовольны, когда суды подтверждали справедливость туманных, и общих формулировок Широкой церкви, но поделать ничего не могли, зато измененные ими контуры викторианских городов и практика благочестия производили неизгладимое впечатление. Представители интеллигенции восприняли идею политической и социальной эволюции задолго до появления книги Дарвина «Происхождение видов» в 1859 г. (как у Теннисона: «Свобода постепенно ширится от прецедента к прецеденту»). Восхваление Томасом Карлейлем, далеко не либералом, принципа опоры на собственные силы и его сочинения по этике придали концепции индивидуализма почти религиозную окраску. Джон Стюарт Милль сделался знаменем Либеральной партии викторианского периода. Его эксцентричность проявлялась только в одном: он мечтал охватить «объединением» другую, женскую половину человечества, которая пребывала вне политики, но чье социальное и правовое положение в обществе начало заметно улучшаться уже в 50-х годах XIX столетия. Определить однозначно двух других обеспокоенных интеллектуалов не так-то просто. В книге «Современные живописцы», ставшей сенсацией 1843 г., выпускник Оксфордского университета Джон Рёскин сочетал преклонение перед аристократией с ниспровергающими взглядами на экономику и окружающую среду. Конечно, его непосредственное политическое воздействие было минимальным по сравнению с влиянием, например, Роберта Оуэна. Но никто так страстно и энергично не обличал слабость законов и неравенство, как Чарлз Диккенс, и никого так не тревожили последствия революции и беззакония, как его. «Министерство околичностей» из романа «Крошка Доррит», Тайт Барнакль и Джарндайс уравновешиваются Слекбриджем, мадам Дефардж и Билли Сайксом. И прав был Дайси, поставивший Диккенса рядом с Шефтсбери в деле создания общественного мнения в пользу «положительного» реформирования законодательства. У воинственных диссентеров и старых радикалов было собственное миропонимание, сильно отличающееся от взглядов истеблишмента, но их щупальца дотягивались и до представителей властей. В 40-х годах XIX в. средний класс зачитывался так называемыми индустриальными романами, например «Сибиллой» Дизраэли. Встревоженные и заинтригованные условиями жизни больших городов, они пытались персонифицировать свои проблемы и привести их в согласие с индивидуалистической моралью. Но миссис Гаскелл в «Мэри Бартон» и Чарлз Кингсли в «Олтоне Локке» не могли им в этом посодействовать; для наиболее мужественных людей был один выход – эмиграция. Едкая сатира Диккенса на Манчестер («Тяжелые времена») утрачивает свою остроту, когда наступает необходимость изобразить лучшее будущее для жителей Коктауна. Лишь у немногих жителей Коктауна имелось время и деньги читать о том, что литераторы думают об их доле, и очень мало было известно, какие книги они вообще читали, хотя, разумеется, нельзя отрицать терпимого отношения среднего класса к радикалам от литературы. Генри Мейхью, первый исследователь социальных проблем для «Морнинг кроникл», продолжил в 60-х годах традиции Коббета и Хазлитта, а вот Диккенс, происходивший из той же богемной среды, ушел в сторону. Как мы знаем, «рабочая аристократия» из профессиональных союзов читала в соответствии с пожеланиями своих высоких покровителей; верующие держали под рукой Библию и «Путь пилигрима». Но как обстояло дело с «грубиянами», с «кабацким обществом»? Народные традиции сохранились и развивались среди рыбаков, ткачей, на сельскохозяйственных фермах. В одной книге XIX в. американский профессор обнаружил две трети самых известных английских баллад, по-прежнему исполнявшихся на северо-востоке Шотландии, где еще более плебейские, так называемые лачужные баллады служили средством распространения информации о фермерах среди пахарей и кучеров и где Общество конюхов представляло собой примитивную форму профсоюза. В романе «Кроме Господа» (1853), о юных годах политического радикала, Джойс Кэри приводит своего героя, Честера Ниммо, в ярмарочную театральную палатку. Труппа актеров играет мелодраму «Мария Мартен, или Убийство в Ред-Барне». Действие основано на реальном событии, происшедшем в 1830 г. накануне мятежа «капитана Свинга». Свою реакцию на игру Ниммо описывает следующим образом: «Драма, которую мы смотрели и которую уже видали миллионы, повествовала о жесточайших обидах, причиняемых богатыми множеству бедняков. На протяжении всего спектакля были использованы любые возможности, чтобы показать целомудрие, благородство и беззащитность бедняков и необузданную жестокость, бессердечие и разнузданность богатых». Тонко чувствующий особенности исторической эпохи, Кэри, видимо, уловил подспудное недовольство и огорчение, достаточно глубоко запрятанные под внешней респектабельностью официальной рабочей политики, для которой, однако, политическое «объединение», аккуратные ряды приемлемых в санитарном отношении жилищ для трудящегося населения, пышные церкви и воскресные парки не могут служить утешением. |
|
|||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Наверх |
||||
|
|
||||
